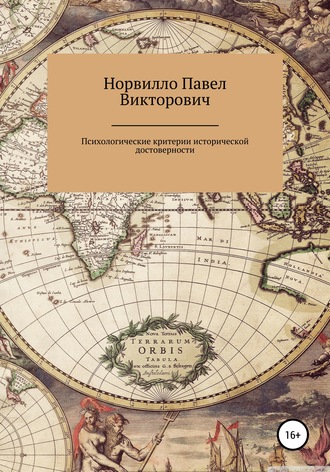
Павел Викторович Норвилло
Психологические критерии исторической достоверности
Посылка 1: не в духе государственных деятелей такого масштаба, как Г. А. Потемкин, пускаться на столь примитивные подлоги, тем более что, двигаясь со скоростью кареты, просто физически невозможно принять нарисованный дом за настоящий.
Вывод: Приказывая строить бутафорские поселения, Г. А. Потемкин и в мыслях не имел выдавать их за реальные.
Посылка 2: из всех выездов Екатерины II “потемкинские деревни” предъявлялись ей только по ходу путешествия на юг, по Новороссии и Крыму.
Предлагаемое объяснение: “потемкинские деревни” были задуманы, выполнены и представлены императрице и её свите именно как макет, развёрнутый на натуре макет того, что предполагается создать в Причерноморье и Крыму. Другое дело, что дополнительные комментарии к этому макету – по последовательности и срокам введения в строй различных объектов, потребностям в финансовом и материально-техническом обеспечении, ожидаемой эффективности и т. п. – могли слышать лишь те, кто находился в непосредственной близости к Г. А. Потемкину (например, в одной с ним карете), остальным же до всего приходилось додумываться самостоятельно.
И если на этом основании можно считать “потемкинские деревни” очковтирательством и мистификацией, то с тем же успехом любого архитектора, представляющего свой проект в виде макета, можно подозревать в намерении селить людей непосредственно в спичечные коробки.
– Всё это, конечно, не лишено забавности, – может заметить, ознакомившись с вышеизложенным, читатель-рационалист. – Но ведь, даже если принять, что оба обсуждаемых автора кругом правы, то и в этом случае меняются разве что оценки некоторых фактов, сами же факты во всей своей совокупности остаются на прежних местах. Так было ли из-за чего копья ломать?
Действительно, Карфаген в конце концов был разрушен, а “золотой век” российского дворянства закатился, и как бы ни перетолковывали мы роль в этих процессах Ганнибала Барки и Г. А. Потемкина, в данном случае в существе дела это мало что меняет. Но – не говоря уже о том, что для науки всякое приближение к истине представляет самостоятельную ценность, – можно указать немало эпизодов, в которых отношение личности к некоторому событию приобретает статус самостоятельного факта, от которого начинает зависеть и оценка события самого по себе, и определение его места в ряду других событий.
Вот, например, что пишет в своём очень добротном обзоре “Время петровских реформ” Е. В. Анисимов: “В 1713 году был издан указ, внесший на многие годы смятение в умы русских предпринимателей. Он запрещал вывозить в Архангельск из внутренних районов главные товары русского экспорта – пеньку, юфть, щетину, поташ и т. д. Эти товары должны были направляться в Петербург – новый порт на Балтике. Понятны расчеты и желания инициатора этого указа – Петра. Он исходил из очевидных для него представлений: Петербург – географически и климатически – более удобен для торговли с Европой, он ближе и для западноевропейских купцов, чем стоящий за три моря Архангельск. Однако волевое решение Петра, основанное на логике и искреннем желании поскорее сделать Петербург “вторым Амстердамом”, не встретило поддержки в среде русского, да и иностранного купечества, торговавшего с Россией, ибо это решение ломало традиционные направления грузопотоков…
Далее. На дворе шёл 1713 год. Балтийское море контролировалось шведами. Русский флот не только сопровождать, конвоировать корабли, но даже выходить из Кронштадта в открытое море боялся. Да и западные шкипера предпочитали риску нежелательной встречи в Балтике со шведским капером риск встречи со льдами в Белом море на пути к Архангельску. А шведы, разумеется, не намеревались предоставить своему врагу возможность свободного плавания по Балтийскому морю.
Но Петр был неумолим.” (Л., Лениздат, 1989, с. 129-130)
Итак, по Е. В. Анисимову, решения о запрете на экспорт через Архангельск было призвано искусственно форсировать рост значения любезного сердцу Петра Петербурга и, помимо всех прочих своих недостатков, принималось без учёта и даже вопреки наличной международной ситуации, то есть было чистой воды волюнтаризмом на грани державного самодурства.
Иначе видится смысл указа 1713 года В. С. Бобылёву, автору монографии “Внешняя политика России эпохи Петра I” (М., Изд-во Университета дружбы народов, 1990). Рассматривая динамику русско-английских отношений за период с Утрехтского конгресса 1713 года, продемонстрировавшего “открыто враждебную позицию Англии по отношению к России”, до Грейфсвальдского договора 1715 года, по каковому договору Георг I (ганноверский курфюрст, провозглашённый королём Англии в 1714 году в связи со смертью королевы Анны) обязывался вступить в войну со Швецией и гарантировал России её приобретения в Восточной Прибалтике, В. С. Бобылёв пишет: “Английское министерство и парламент в целом поддержали новый курс своего короля, хотя Англия и не считала себя связанной Грейфсвальдским договором, рассматривая его как частное дело короля.
Столь радикальный поворот в британской политике был обусловлен резким обострением отношений Швеции с морскими державами, в чём немалую роль сыграла русская дипломатия. В конце 1713 года Петр издал указ о запрещении вывозить корабельные материалы через Архангельск, что поставило торговые круги Англии и Голландии перед дилеммой: либо вообще отказаться от русского импорта, либо, прорываясь сквозь шведские морские патрули, приходить за товарами в порты Восточной Прибалтики. Навигация 1714 г., в ходе которой шведы захватили 20 голландских и 24 английских корабля, превзошла все ожидания царя, а её политические дивиденды намного превзошли те валютные потери, которые понесло русское правительство, ограничив архангельскую торговлю.
Морские державы выступили с решительным протестом, требуя от Карла XII восстановления режима свободной торговли для нейтральных стран, но король был непреклонен… Жизненные интересы Англии не только заставили британский кабинет благосклонно отнестись к заключению королём-курфюрстом Грейфсвальдского договора, но и направить летом 1715 г. на Балтику свою эскадру для защиты торговых судов от нападений шведских каперов.
Военно-политическое сближение России с морскими державами позитивно отразилось и на фронтах Северной войны” (с. 92-93).
Таким образом, по В. С. Бобылёву, решение о запрете на экспорт через Архангельск было принято не вопреки и без учёта наличной внешнеполитической ситуации, а именно исходя из этой ситуации и в расчёте на улучшение положения России на международной арене. Что же касается роста значения Петербурга, то с этой точки зрения он [рост] видится, может быть, и желательным для царя, но в любом случае побочным и сравнительно второстепенным результатом перемещения торговли с Севера на Балтику.




