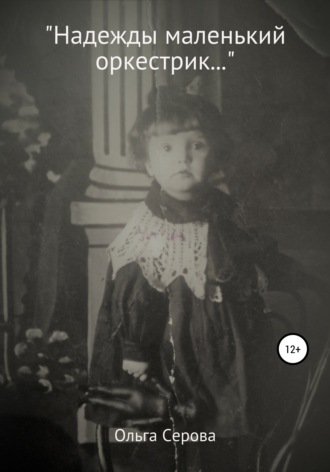
Ольга Серова
Надежды маленький оркестрик…
Дружной ватагой мы ходили в ближайший лесок, мрачноватый, изобилующий хвойными породами, по ложбинкам собирали малину. Я очень скучала по Шурику и решила собранную малину не есть, а насушить и послать посылку. И насушила довольно приличный мешочек, но когда надумала соорудить посылку, обнаружилось, что малина моя исчезла (к папе ходила одна башкирка, часто оставалась у нас ночевать, и я почему-то была уверена, что это она съела мои ягоды. Возможно, я ревновала отца и поэтому мое отношение к ней было недружественным).
Поплакала, конечно, от обиды, но никаких сцен и истерик не закатывала, переживала «про себя».
В Караидели я с похвальной грамотой окончила 3й класс и начала учебу в 4м классе, но возникла необходимость переезжать в Абдулино, к месту работы отца. Там русской школы не было, и меня отец устроил в Магинском районе, сняв угол в комнате у Шобуховых, дети которых тоже учились в этой школе: Мишка в одном классе со мной, а старшая Таня – в 6 классе.
Брать меня «на стол» хозяйка не пожелала, договорились на пол литра молока в день. Хлеб (ржаной) я покупала в лавке, но то ли мука тогда была некачественная, то ли пекарь «не тот», но хлеб в свежем виде есть было невозможно: на 2-3 пальца спекшийся слой, подобный глине, откусив который, невозможно было разжать зубы, так крепко он «держал» их. Поэтому он подолгу валялся на подоконнике, пока не рассохнется. Тогда я отламывала небольшие кусочки и отправляла в рот «размокать».
Никакой горячей пищи не было. Хозяйка каждый день парила в печи трехведерный чугун картошки для свиней, почему бы ежедневно не давать мне 2-3 картофелины за соответствующую плату? Не знаю. По-видимому, нравы того времени были суровы.
В закутке за печкой, завешанной занавеской, тихо и неприметно ютилась свекровь хозяйки, ее никогда не звали к столу, чем она питалась, не знаю. Правда, раз застала ее отливающей молоко из моей бутылки, по-видимому, ей тоже хотелось поесть.
Странно, но я не помню, чтобы испытывала страдание и чувство обездоленности, все воспринималось как должное (или данность). Наверное, сказывалось папино воспитание.
Я к тому времени уже подросла, но все еще донашивала пальтишко, которое уже было тесно мне в плечах, и рукава были уже коротки. Чтобы приодеть меня, отец где-то раздобыл 5 метров белой бумазейки и отдал пошить своей знакомой башкирке, но та так экономно покроила, что что я еле втиснулась в платье. Глухой стоячий воротник давил шею как удавка, а длинные, до колен, панталоны были так узки, что держались на мне без резинки. Вместо обычных чулок – башкирские из белой же шерсти тонкие самодельные “чулки” до колен, и лапти – весной, осенью и зимой (летом – босиком). На голове у меня была шапка-«чулок», тоже белая, так что со стороны видик у меня был жалкий, но, повторюсь, меня это не волновало. Училась я на пятерки, меня хорошо принимали, поскольку, как я помню, мы дружно и весело играли, бегали в лес, зимой катались на санках и бегали на коньках по замерзшему пруду. Я бегала так быстро, что меня мальчишки обогнать не могли, и это тоже, видимо, вызывало уважение.
И все же, по-видимому, не хватало домашнего тепла. До деревни, где жил отец, было не близко – нужно было, пройдя 2-3 километра, перевалить через три больших холма, поросших лесом, и я, надев коньки, после школы бежала в Абдулино. Добиралась уже затемно, в окнах светились лампы. Отец обычно работал допоздна, встречала «хозяйка» – не знаю, была ли она женой или просто временной сожительницей. Вскоре приходил отец и садился ужинать – был и пшеничный хлеб, и какое-то варево, чай с сахаром и даже медом, сливочное масло. Но утром рано отец уходил на работу, и мне на завтрак был только пустой черный чай и ржаной хлеб: «Вчера все съели». Я уходила в Могинск, твердо решив в следующую субботу не приходить. Но за неделю обида испарялась, и я снова шла «к теплу».
На майский праздник мы с отцом пошли на митинг к сельсовету, башкирка эта тоже пошла (одета по тем временам она была совершенно необычно – в брюках и телогрейке, она вроде бы служила в пожарной охране).
Мы с отцом вернулись раньше нее, она заявилась поздно вечером – сильно пьяная и на недовольную реакцию отца в ответ схватила большой кухонный нож и стала дебоширить. На шум заглянул из соседней комнаты хозяин и вместе с отцом ее быстро скрутили и выставили на улицу, а дверь изнутри «забаррикадировали». Пошумев какое-то время, она удалилась, больше я ее не видела.
На летние каникулы я перебралась к отцу, он снял квартиру у русской бабушки, и я с ней быстро подружилась, бабка была замечательная! И жизнь – прекрасной!
Здесь прервусь и вернусь несколько назад, в Могинск. Как я упоминала выше, я очень скучала по Шурику и написала маме, чтобы та привезла его летом ко мне, хотя сама и не верила в осуществление просьбы, так все было далеко-далеко…
Мама изредка писала мне, а однажды в письмо вложила 1 рубль. Деньги папа мне давал регулярно, когда попутно заезжал по пути в Караидель, где был то ли банк, то ли вышестоящая контора «Башкоопинсоюза», но я их почти не тратила, так как покупала только хлеб. Я жалела отца, помнила, каким он был всегда подтянутым, в военной форме, как выглядел, когда мы жили вместе с мамой, и теперь – жалкое поношенное одеяние: рубашка-косоворотка, вышитая синими васильками (по воротнику), вся выцвела, в дырках, как горохом побитая; на ногах старые валенки, поверх которых – те же лапти.
Еще я знала, что он высылает алименты на Шурика, часто ездит в командировки, а это тоже расходы, поэтому «зря» не тратилась. Как-то летом в сельпо привезли «баретки» – тапочки, сшитые из черных и белых кусочков кожи (скорее всего, что-то вроде дермантина), по 12 рублей, и мои подружки прибежали за мной, потащили в магазин. Долго стояла я у прилавка, зажав в кулаке эти 12 рублей, пока не разобрали все, но так и не купила и пробегала все лето босиком.
Но неожиданно, ближе к осени, мама прислала посылку, и все соседи сбежались поглядеть, ахали и дивились «как же такая богатая не заберет дочку к себе». А «богатство» по тем временам все же было солидным, ведь в магазинчиках ничего этого не было: синяя сатиновая пионерская форма – юбка и кофта, трикотажный джемпер с юбкой, детские туфельки, калоши и ситцевый платочек.
Аханья эти меня очень разбередили, и эти добротные вещи как бы напомнили, что есть другая, более радостная жизнь, я опять стала писать маме слезные письма и умоляла привезти Шурика, что я по нему сильно скучаю…
Продолжу – о летних каникулах в Абдулино у русской бабки. Я, лежа на сеновале, читала какую-то книжку, и тут меня бабушка позвала вниз, чтобы сообщить новость: отец твой женился на молодой вдовушке-башкирке и едет на телеге, чтобы забрать меня и наши пожитки.
Новость эта меня прямо-таки «огорошила» и раздосадовала – ведь так хорошо было у бабки, а тут опять к какой-то башкирке! И я залезла обратно на сеновал с твердым намерением: останусь жить у бабушки, пусть один едет к своей башкирке… Упрямство и такой решительный протест был неожиданным для отца и очень озадачил его, он был расстроен и терпеливо начал объяснять мне, что ему трудно жить одному, по чужим углам, да и мне будет лучше, у нее – своя баня, огород, пчелы и прочие блага. Я продолжала упираться, он не выдержал, стащил меня с сеновала, и плачущую, посадил на телегу.
К счастью, все было совсем неплохо, башкирка эта оказалась доброй, веселой и общительной, и мы с ней как-то «сошлись», хотя она не умела говорить по-русски, а я не знала башкирского, но, видимо, как-то понимали друг друга.
Как-то ярким солнечным днем (отец был на работе) она нарядила меня в свои национальные наряды, на голову надела колпак, расшитый монетками (и на затылке болтались несколько ленточек- монисто), нарядный фартук, и стала наигрывать на кобузе и учить меня башкирским танцам. Вдруг влетает запыхавшийся Мишка Шобухов: «Роза, мама твоя приехала!» Это было как гром среди ясного неба…


