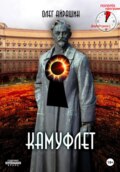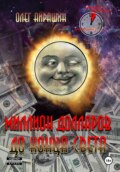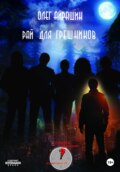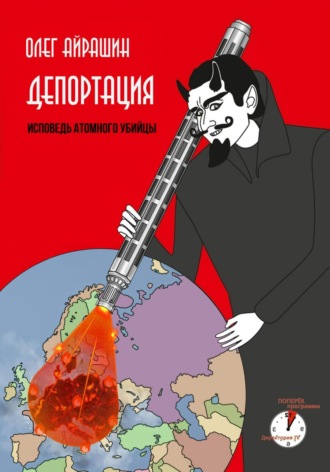
Олег Айрашин
Депортация
– Слушай, Александр Павлович… А какой радионуклид самый опасный? В Рингхальсе сначала и разговоров было, мол, натрий-натрий-натрий! Потом – йод-йод-йод! Затем про них перестали, как отрезали. Зато началось про цезий да стронций. И вот в Калабрии опять – натрий… А почему в Чернобыле про натрий – ни слова не звучало?
– Видишь ли, радиоактивный натрий – проблема не всякого ядерного реактора. А исключительно реакторов на быстрых нейтронах. Теплоноситель первого контура у них – не вода, а натрий. В отличие от чернобыльского и прочих.
– Первый контур? – спросил Ратников.
– Жидкость, которую прокачивают в пространство между тепловыделяющими элементами, твэлами. Радиационные поля там, когда реактор на ходу, чудовищные. Поэтому часть атомов обычного, нерадиоактивного натрия‑двадцать три активируется. То есть превращается в радиоактивные изотопы того же натрия.
– Изотопы? Ты сказал: изотопы? Но шум‑то вокруг единственного – двадцать четвёртого?
– Он самый активный.
– В смысле?
– Распадается интенсивно. Существует такое понятие – активность. Это как скорострельность оружия. – Я старался объяснять попроще. – Измеряют активность в беккерелях. Это один выстрел, тьфу, один распад в секунду. Но ту же интенсивность распада можно выразить через другое понятие…
– Период полураспада?
– Верно. И пропорция тут обратная. Чем короче период полураспада, тем выше активность. Возьмём, к примеру, уран‑двести тридцать восемь. Распадается черепашьим ходом, полупериод – четыре с половиной миллиарда лет. Только представь: столько же годиков нашей планете. А у натрия‑двадцать четыре полупериод совсем мизерный, пятнадцать часов. И у сто тридцать первого йода цифра небольшая, восемь суток. Чувствуешь разницу?
– Ничего себе. Но почему про натрий замолчали сегодня? Ну, который в Рингхальсе?
– Так ведь высокая активность – она быстро сходит на ноль. Что называется, нет худа без добра. За пятнадцать часов распадается половина натрия‑двадцать четыре. За двое суток активность снижается в десять раз, за четверо – в сто. А за десять полупериодов – это шесть суток, – активность падает тысячекратно. Неделя‑другая – даже следа не останется.
– Так просто!
– И тогда на первое место выползает…
– Йод? – закончил фразу Ратников.
– Да, сто тридцать первый, но и он живёт недолго. Три месяца – и нет проблемы. А дальше на главную сцену выходит знаменитая парочка – стронций‑девяносто и цезий‑сто тридцать семь. Эти приходят на века.
– Так ведь и уран…
– Даже и не сравнивай. Свежий уран…
– Свежий? – не понял Ратников.
– То есть необлучённый. Ещё не поработал в реакторе и продуктов деления не содержит. Ни стронция, ни цезия, не говоря уже об йоде. Такой уран почти не радиоактивный, его можно держать в руках.
– Неужели?
– Проверено на себе.
– А как же Югославия, там снаряды…
– Ну да. Потому что при взрыве образуется урановая мелкодисперсная пыль и аэрозоли, – пояснил я. – Понимаешь, это как ртутный термометр. Пока он целёхонький – пользуйся на здоровье. Но если градусник разбился, токсичные пары ртути с воздухом поступают внутрь организма. А это совсем другая история.
– Ясно. И вот насчёт стронция…
– А это уже серьёзно. Полураспад – что у стронция, что у цезия – не миллиарды, а всего‑то около тридцати лет.
– И в этом проблема?
– Вот именно! Цифра противная, она соизмерима со сроками человеческой жизни. Активность этих изотопов – мама не горюй, однако распадаются они не так быстро, как хотелось бы. Десять полупериодов – это триста лет. Вспотеешь ждать.
– Спасибо, Александр Павлович, просветил. Я правильно понял: хоть реактор уже не работает, а…
– Ты правильно понял. Ещё картинка для наглядности. В реактор помещают сборки с твэлами из плутония. Этакие атомные поленья. Когда их много, масса плутония достигает критической – пошла цепная реакция деления. Поленья пылают, активность внутри реактора жуткая. Теперь дальше. Реактор остановили…
– Остановили?.. – не понял он.
– Не важно, как именно, плановая остановка или авария. Главное, что прекратилось деление ядер. Но радиация‑то не исчезла, ведь продукты деления продолжают усиленно распадаться. Можно сказать, мы имеем кучу тлеющих головешек. А в случае взрыва – ещё и тучу раскалённой золы; радиоактивная пыль разносится на сотни и тысячи километров.
– А как они связаны, доза и загрязнение территорий? Только и слышно, мол, фон превышает допустимый в тысячу, в две тысячи раз.
– Тут связь не прямая, – пояснил я. – Представь, идут боевые действия. Противник ведёт обстрел, плотность огня высокая, вся земля изрыта воронками. Так и для радиации – высокий фон, много беккерелей, делённых на квадратный метр или километр. А доза – это другое. Греи и зиверты отражают серьёзность полученных ранений.
Немного помолчав, я добавил:
– Если бы радиацию измеряли в килограммах, то один грей – это была бы тонна. Несколько зивертов могут раздавить человека насмерть.
– Подожди, вернёмся к фону. Ты говоришь, плотность огня. Н ведь от пуль и осколков можно защититься?
– О чём и речь, – согласился я. – Бронежилет надеть, в блиндаже схорониться, в окопе отсидеться. Либо отступить, а население эвакуировать.
– Молодец, весьма доходчиво. Вот умеешь ты слова подобрать. По‑нашенски, по‑простому.
– Я знал, что тебе понравится.
Ратников пристально посмотрел мне в глаза.
– Ты подмечаешь то, на что другие не обращают внимания. А в книжке твоей было, ну, про всё про это?
– Там много чего… было.
– М‑да, тут есть над чем подумать… А вот и наш Игорь Маркович.
Вараксин с ходу плюхнулся в кресло.
– Ну как там «Калабрия», что удалось узнать? – спросил Ратников. – Похоже на Рингхальс?
– Один в один, – ответил Вараксин. – Мы запросили в Евратоме копии аварийно‑диагностических файлов. В обоих эпизодах центры взрывов располагались на нулевой отметке. Судя по всему, пыхнули теплообменники.
– Это системы охлаждения, – согласно кивнул я. – А сами реакторы?
– Блоки разрушены, да. Но все двухтысячники заглублены под землю, что уже неплохо, – пояснил Вараксин. – Поэтому выбросы фрагментов ядерного топлива из реактора минимальны. С чернобыльскими не сравнить. Кстати, второй реактор в Калабрии – водо‑водяной. И он‑то уцелел, хотя проект опять же российский.
Ратников вопросительно взглянул на меня.
– А в чём главное отличие быстрых реакторов? С точки зрения их уязвимости… Ну, ты понимаешь.
– В теплообменнике такого реактора, – пояснил я, – натрия хоть залейся. И воды целая река. А разделены эти жидкости металлическими стенками толщиной в миллиметр.
– Выходит, что слабое звено – теплообменник? – спросил Ратников.
– Получается, так, – ответил я.
– Ещё новость по Рингхальсу, – сказал Вараксин. – Нашли Эриксона.
– Да? Жив‑здоров?
– Увы, труп…
– А кто такой Эриксон? – спросил я.
– Лукас Эриксон – главный физик атомной станции в Рингхальсе, – пояснил Вараксин. – Катастрофа случилась ночью, когда он был дома. Но утром на станции не появился. Выдвигалась версия, что он скрылся, чтобы избежать ответственности за аварию.
– А где его нашли? – поинтересовался Ратников.
– В море. Нашли то, что от него осталось. Опознали по персональному чипу, – сказал Вараксин.
– Выходит, ночью он пошёл купаться и утонул? – предположил я.
– Ага, – ехидно заметил Вараксин. – Купаться. Прямо в костюме.
– Ну, други мои, что скажете? – Ратников не спеша оглядел нас.
– Похоже на начало какой‑то операции, – предположил Вараксин.
– Именно! – воскликнул Ратников. – Именно так! Единого действия, направленного… А чёрт его знает, куда оно направлено. Ясно одно, – он перевёл взгляд на меня, – кто в тебя целился, тот и реакторы порушил.
– Однозначно.
– Так что отныне работаешь на первый сектор. Как и при любой внешней агрессии мы должны ответить на три вопроса. Кто нападает? Чего хотят? Чем это грозит человечеству? Так что – думай, Александр Павлович, думай.
– Так точно!
– Да, ещё раз: из Москвы пока ни ногой! – продолжил Ратников. – Пусть отдохнёт от тебя Чехия. Дело оказалось серьёзным до чрезвычайности. Куда серьёзней, чем я полагал прежде. Уверен, это наш профиль, первого сектора. К сожалению.
Я взглянул на циферблат: Времени было – 23:50. Московского. Грёбаная пятница…
Часть II. Огненный ребус
Один я на всей планете вижу страшную тень, наползающую на страну, но как раз я и не могу понять, чья это тень и зачем…
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий «Трудно быть богом»
Глава 5. Покушения продолжаются
Москва, Академия метанаук
14 июля 2046 года, суббота
Попался как-то на глаза рейтинг опасных профессий. Возглавляли перечень всяческие силовики. Фигурировали там рыбаки и лесорубы А вот о писателях даже не упоминалось. Похоже, устарел списочек‑то…
В первом секторе мне выделили кабинет с виртуальным окном. М‑да, не Моравия…
Присел за компьютерный стол. А вдруг флешечка моя, та самая, родная – в разъёме? Ага, как же… Блин, руки опускаются, делать ничего не хочется. А надо.
Включил комп. Карта Европы, радиоактивный фон. Красное пятно на севере и ярко‑красный овал на юге, в мыске итальянского «сапога».
Но какая же связь с моей рукописью? И кто за этим стоит?
Контуры Европы расплываются перед глазами. Откинувшись в кресле, смежил веки…
Когда очнулся, уже светало. Сколько же я проспал? М-да… По-хорошему нужен будильник, а лучше два. И второй должен располагаться вне пределов досягаемости рук будимого. Шестой час, а голова по‑прежнему пустая.
Прогуляться, что ли? И процесс пойдёт?
Года два назад неподалёку от Академии разбили парк. Четыре квартала снесли, не пожалели. Хорошо тут, малолюдно. Бродить по аллеям, вдыхая аромат свежескошенной травы – приятный контраст с кабинетной скукой. Почти как в Чехии. Вот запущу руку в карман, а флешка – там… Увы. Прощай книга, прощай принт! Что за чёрт?
В кустах затаился колёсный броневичок, в глаза бросилась надпись на борту: «Принты». Прежде на подобных машинах перевозили наличность, а теперь вот – ценности духовные.
Взвыл движок, броневик заёрзал, разворачиваясь на месте; разлетелись прочь комья земли, корни и целые кусты. Машина замерла на секунду и, раскрутившись в другую сторону, оказалась нацелена прямо на меня. Стальной зверь грозно сверкнул стёклами и рванулся с места. Разметав подвернувшуюся скамейку, снёс пару берёзок и разрушил бордюры.
Бросившись вправо, я откатился по земле и отполз в кусты. Не вставать, не показываться! Только здесь, под ветвями у меня есть шанс.
Ах, как пахнет скошенная трава…
Перекатами, а где и по‑пластунски, прислушиваясь к рычанию машины, я удалился метров на двадцать и затаился в зарослях черёмухи. Броневик с рёвом промчался в нескольких шагах от меня. Заметил, нет?
А это что же? Я наткнулся на край вкопанной в землю бетонной трубы, широкой и почти пустой. Протиснувшись вглубь, дополз до противоположного конца. Только высунулся – неподалёку вновь забасил мощный дизель. Ближе, ещё ближе… Голодный хищник проехал вплотную, воняя выхлопной гарью. Через минуту-другую звук мотора стих вдали.
Переждав, я выбрался на волю.
Отряхнувшись, помятый и грязный, добрёл до выхода из парка, где располагался автомат «Амазона». Подобрав рубашку и брюки по размеру, переоделся в кабине, а старую одежду… Стоп! Через материю прощупывался какой-то твёрдый предмет. Неужто флешка?! Смартфон, всего лишь смартфон. И ещё один, поменьше – служебный. И тут он зазвонил. Кто же это? Ага, Сергей, шеф родного, пятого сектора Академии.
Но голос его звучал сухо:
– Александр Павлович, ты где, далеко? А чего такой потрёпанный?
– М‑м… Здесь я, неподалёку.
– Вот и хорошо. Заглянул бы, а?
– С превеликим удовольствием.
Внутренний озноб постепенно стихал.
– Насчёт удовольствия не знаю…
– Что‑то случилось, Сергей?
– Разумеется, иначе бы я не звонил. Ты зачем винил с Морриконе в «Эдеме» оставил?
– Винил? Да-да… А я всё гадал, куда он запропастился. Вот и нашёлся!
– Ага, только не сам по себе. Моцарт его нашёл. Моцарт!
– Колоритно! А что такого, Сергей?
– Он ещё спрашивает! Да Вольфганг Амадеич эту вещь пять раз подряд переслушивал!
– Так понравилось?
– Не то слово! Он расплакался, можешь ты это понять? Эх, Александр Павлович!
– Да я же не нарочно.
– Ладно, чего уж теперь… Напортачил – сам и подчищай.
Он отключился, а у меня – «Берлинский концерт», на сей раз из личного смартфона.
– Маречка, привет. Как ты, милая?
– Нормально. А с тобой что, на тебе просто лица нет? И чумазый какой‑то… Саш, а ты сейчас где?
– Я? Я в Москве, по книжным делам. А лицо… Не успел ещё умыться.
– У тебя точно всё в порядке? А то меня мысли тревожные мучают. Аварии эти на атомных станциях…
– Так это там, в Европе.
– Мы с Машенькой по тебе соскучились. Знаешь, что она тут выдала? Чего молчишь, тебе не интересно?
– Да нет, что ты! Рассказывай…
– Она сказала: «А правда ведь ёлка похожа на ёжика? Оба на “ё”, и оба колючие».
– Замечательно!
– А ты в Моравию когда вернёшься?
– Когда? Пока не знаю… А что ты хотела, родная?
– Там в прихожей, на антресолях, туфли мои коричневые. Что мы в Праге покупали, в позапрошлом году.
– Маречка, зачем тебе старые туфли? Новые напечатай.
– А старые куда? Я их и не носила почти.
– На утилизацию, куда же ещё?
– Эх, ты! А ещё считаешь себя экологом!
– Да привезу, привезу, конечно. Милая, я уже рядом с редакцией, позже перезвоню. Целую вас обеих.
Ух… А с Моцартом и правда нехорошо получилось. Но что делать, тут не до «Эдема». Да ведь Сергей и не знает, что я в первом секторе… Вот пусть Ратников ему и разъяснит, что да как. Но заглянуть в пятый надо, хоть на минуту.
– Привет, Палыч. Ты с чего таким растерянным стал? – встретил меня Сергей.
– Привет. Слушай, за винил извини, уже подчистил. Там и другие артефакты всплыли… В общем, теперь всё нормально. Понимаешь, меня Ратников пристегнул…
– …К атомным делам. Я в курсе. Вопрос об активном участии пятого сектора в расследовании почти решён, но пока… Ещё какие‑то новости?
– Я с Мишаней встречался. Помнишь, «Ноев ковчег», контрольная группа?
– Ну как же – Мишаня! А сколько же ему, он не…
– Нет, и в этом проблема. Социальную десятку профукал. В отличие от супруги, Татьяны.
Сергей кивнул.
– Теперь на весь мир обижен, даже в ликвидаторы податься готов, – продолжил я. – Бессмертных ненавидит, лишь для меня сделал исключение.
– А ты знаешь, Мишаня где‑то прав. – Сергей почесал аристократический нос. – Шансы на вечную жизнь захватили мир врасплох, люди не успели подготовиться.
– В смысле? Учитель, я не…
– Тебе и не понять, ибо сытый голодного не разумеет. Эликсир бессмертия победил многих. Что не удалось доллару, довершили витабаксы.
– Подожди, но ведь глобальный референдум… Люди осознали, что прогресс невозможен без…
– Никакое процветание не стоит единства общества.
Иногда Сергей перебивал собеседника, но грубым это не казалось: он ухватывал чужие мысли на лету.
– Одна планета – цельное человечество. – Сергея хлебом не корми – дай пофилософствовать. – В ядерный век это категорический императив. А теперь скажи, что в твоём понимании означает прогресс?
– Завтра должно быть лучше, чем вчера.
– Умница! – ехидно улыбнулся он. – Моя школа. Но лучше – чем? И – кому? А главное – зачем?
– Так вот я и спрашиваю: в нашем случае «лучше» – это что? Витабаксов побольше? Эликсир для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным? Но ведь не получится. Не могут все‑все жить вечно. Согласись, Сергей, мы упрёмся, хоть и в ту же экологию.
– Ты прав. Развитие, по Линкольну, оправдано лишь тогда, когда оно приносит пользу людям.
– А оценить…
– Сразу не получится. Только время покажет. И прогресс нельзя подстёгивать, он должен быть органичным. Вот пример опережающего развития – атом. Злобному питекантропу – речь о подкорке, не о разуме – дали силу богов. И что? Судьба мира висит на волоске.
– Но в прошлом-то веке обошлось, слава богу, – возразил я.
– Неужели? А тебе не приходило в голову, что это счастливая случайность? Или ты решил, что сегодня на земле‑матушке стало безопаснее?
– Да уж… – вспомнились Часы Войны.
– Не должно грядущее зависеть от пустяков. Зацепится, скажем, Александр Павлович ногой за балясину или заскользит вниз по лестнице…
Заметив мой изумлённый взгляд, Сергей добавил:
– Скажу больше. Ратников прав, тут существует связь.
– Катастроф и эликсира?
Он снова кивнул.
– Доказать не могу, но чувствую. Надеюсь, ты догадался, к чему всё это говорено? Прогресс и всякое такое?
– Да, Учитель. Прогресс не должен быть агрессивным, и его цель вовсе не витабаксы.
– Разумеется. А?..
– Просто вита. Жизнь. Уверенность и безопасность. Для всех людей.
– Молодец! Именно этим и должны мы заниматься.
Подхожу к лифту – оттуда выходит крепкий черноусый мужчина. Скользнув по мне взглядом, незнакомец упругой походкой шагает мимо.
Странный тип, первый раз встречаю подобного у нас, в пятом. Интересно, что этому чужаку здесь понадобилось? Вот у Ратникова, в первом, там бы – да.
Зайдя в кабину, жму кнопку с цифрой «1». Стальные створки плавно закрываются – и тут пронзительное чувство опасности толкает меня вон.
Лифт уходит порожняком. Затаив дыхание, наблюдаю за дисплеем с номерами этажей. Цифры мелькают стремительно – и всё быстрее. Секунда, другая… От страшного удара сотрясаются стены. Я ждал этого и всё же содрогнулся. Это не я спасся – спецсредства Академии пришли на выручку. Второй за сегодня раз.
Перейдя в другое крыло здания, заставил себя войти в лифт. Спустившись в первый сектор, рассказал Ратникову о своих злоключениях.
– Сурово, – лаконично оценил он случившееся и тут же связался со службой безопасности.
– Неплохо бы коньячку, – предложил я. – Пока меня совсем не прикончили.
Ратников до краёв наполнил пузатую рюмку.
– Вот скажи, Палыч… Какого лешего тебя в парк потянуло? Ясно ведь, что охоту за тобой не прекратили.
Я промолчал.
– Эх… Учишь тебя, учишь…– вздохнул он. – А в пятом что ты позабыл?
– Так ведь эксперимент. Мы там ещё и по музыке…
– Понимаю, – улыбнулся он. – Любопытно же, как у Чайковского с Нуриевым сложится.
– Фу, как вульгарно…
– Кстати, о музыке. Наши спецы обследовали твой дом. Особых следов не обнаружили, орудовали профессионалы. Только вот на лестнице наследили. Думаешь, чем?
– Маслом подсолнечным? Аннушка поработала?
– Какая Аннушка? – удивился Ратников. – Снова ты со своими штучками… Не рано развеселился? А, похоже, откат после стресса? Нет, не маслом. Лубрикантом ступеньки изгадили.
– Ну что за пошлость! Испохабить лестницу смазкой для пиписьки. – Я невольно поморщился. – Намотать меня на грязные колёса или сверзить с десятого этажа – нате вам пожалуйста. Сколько же можно? А я спросить хочу: где благородный запах горького миндаля, столь характерный для цианистого калия? Или боевой укол ядовитым зонтиком? Да хоть бы и полоний – с учётом, бля, специфики момента? Ну, скажем, в этом коньяке… Кстати, добавь‑ка ещё… – Я протянул пустую рюмку. – Закрепить результат.
– Для снятия стресса тебе хватит.
– Но почему они так сразу, а? Где предложение, от которого нельзя отказаться?
– Хороший вопрос. Так резко поступают лишь в двух случаях. Когда понимают, что договориться всё равно не получится… – Он помолчал недолго. – Или же тебя воспринимают как прямую угрозу.
– А с чего бы меня им бояться? Про наше с тобой сотрудничество посторонние знать не могут. Хотя, если уж они в Академию проникли…
– Это да, – согласился Ратников. – За тобой буквально идут по пятам. Но тревогу вызываешь не ты сам по себе; дело, скорее, в твоей книге. Всё же вспомни, какие там откровения были?
– Какие откровения? Да, язык простой. Ну, с юмором. Но чтобы пророчества? Нет.
– И всё же ты, похоже, обладаешь какими‑то опасными сведениями.
– Тогда бы я знал.
– Не в твоём нынешнем состоянии.
– Да уж, – вздохнул я.
– Твоё подсознание хранит что‑то важное, но ты не придаёшь этому значения. Однако пойми, именно там, в подкорке – ключ к разгадке.
– То есть?
– Какая‑то информация, попади она в головы читателей, могла нарушить планы злодеев.
– И эти сведения…
– Теперь лишь в одном месте… В твоей голове, Александр Павлович. И ты в любой момент можешь осознать…
– Я понял. Спрячьте меня в бронированную камеру. И приставьте ко мне вооружённую охрану.
Мобильник на столе заверещал; Ратников молча выслушал сообщение.
– Его задержали? – спросил я.
– Нет. На территории Академии никого с похожими приметами не обнаружили, – он помедлил. – Шутки кончились, сам видишь. Они взяли твой след. Сюда, в первый, им не дотянуться, а вот в пятый… Там стоит усилить защиту. Но по нашей теме ты работаешь только здесь, ясно?
– Да.
– И на Материке не рискуй без надобности. Про планы свои не болтай, маршруты – никому. Понимаешь, Александр Павлович? Ни‑ко‑му. Кроме меня, разумеется.
– Само собой.
– И ради бога, не отвлекайся. Времени у нас мало, действовать надо быстрее противников.
– Быстрее – что? – осведомился я. – В кабинетах сидеть?
– Думать. Думать.
– Тогда я пошёл. Думать. Быстро думать.