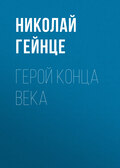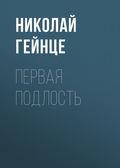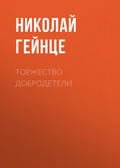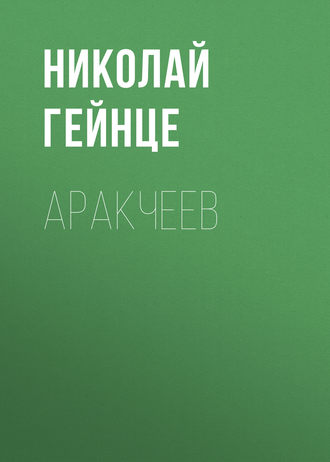
Николай Гейнце
Аракчеев
XXI
В сумерках
Сумерки в обширной приемной дома графа Аракчеева окончательно сгустились. Был пятый час вечера в исходе.
От долгого нетерпеливого ожидания Антон Антонович фон Зееман пришел в какое-то странное напряженно-нервное состояние: ему положительно стало жутко в этой огромной комнате, с тонувшими уже в густом мраке углами. В доме царила безусловная тишина, и лишь со стороны улицы глухо доносился визг санных полозьев и крики кучеров.
– Да что он меня, дуболом, ночевать, что ли, здесь оставить хочет? – проворчал, наконец, сквозь зубы, Зееман. – Да нет, погодишь… Я к тебе в кабинет и без вторичного доклада войду…
Он встал, чтобы привести в исполнение это последнее решение, как вдруг дверь кабинета скрипнула, отворилась, и на ее пороге появилась высокая фигура графа Алексея Андреевича.
Не ожидая из этой двери появления самого графа, Антон Антонович, нервно разбитый долгим ожиданием, вздрогнул и остановился, как вкопанный, широко раскрытыми, почти полными ужаса глазами глядя на приближающегося к нему властного хозяина.
Последний шел медленно, как бы намеренно укорачивая шаги, и тоже в упор смотрел на стоявшего, по военной привычке, на вытяжке молодого офицера.
Наконец, он подошел к нему совсем близко.
– Ко мне? – прогнусил лаконично граф.
– К вашему сиятельству с письмом от ее сиятельства графини Натальи Федоровны, – по-военному, с чуть заметною дрожью в голосе, отрапортовал фон Зееман.
Вынув из кивера, который был у него в левой руке, письмо, он подал графу.
– Ее сиятельство просили обязательно ответа! – добавил он.
– А давно ли гвардейские офицеры на посылках у баб состоять стали? – вместо ответа снова прогнусил Алексей Андреевич, и не успел фон Зееман что-либо возразить ему, быстро, по-военному, повернулся к нему спиной и, так же быстро проследовав в залу, скрылся в своем кабинете.
В кабинете было уже совершенно темно. Граф захлопал в ладоши.
– Огня! – крикнул он явившемуся Степану.
Свечи были зажжены.
Граф Аракчеев не спеша уселся за письменный стол, так же не спеша разорвал конверт и принялся читать письмо.
На постоянно как бы с окаменелым выражением лице Алексея Андреевича невозможно было прочесть никакого впечатления от читаемых строк, только в конце чтения углы его губ судорожно передернулись и густые брови сдвинулись и нависли над орбитами глаз, как бы под гнетом внезапно появившейся мысли.
Он отложил письмо в сторону и стал рыться в кипе бумаг, лежавших на письменном столе. Наконец, он, видимо, нашел искомое.
Это были два полученные им третьего дня полицейские уведомления: первое об отлучившейся из своего дома девице из дворян Екатерине Петровне Бахметьевой, оставившей записку о том, чтобы никого не винить в ее смерти, и второе – о найденном около одной из прорубей реки Невы верхнем женском платье, признанном слугами Бахметьевой за принадлежащее этой последней. «Тело утопившейся, несмотря на произведенные тщательные розыски, еще не найдено». Такой стереотипно-полицейской фразой оканчивалось последнее уведомление.
Граф вспомнил, какое тяжелое впечатление произвело на него это известие о самоубийстве все же близкой ему девушки, которую он видел всего за какую-нибудь неделю до означенного в уведомлении дня. Алексей Андреевич не заметил в ней ничего особенного, хотя она была как-то рассеяннее и задумчивее обыкновенного. Он теперь припомнил это.
«Рехнулась, спятила! Баба, как задумается – беда!» – пронеслось в его голове.
Он не догадался и теперь, что эта задумчивость Екатерины Петровны была по поводу решенного ею на другой день визита к Наталье Федоровне.
Оставшийся, между тем, снова один в темной приемной, фон Зееман со скрежетом зубов опустился на стул.
«Мальчишка, трус, не нашелся что ответить, растерялся, как баба!» – мысленно посылал он ругательства по своему собственному адресу.
Со злобной решимостью он стал ждать появления графа после прочтения письма, чтобы высказать ему все, особенно, если он откажется тотчас же ответить графине. В этом отказе Антон Антонович был почти уверен.
«Я покажу ему, что я не состою только на посылках у его жены, что я ее друг, и друг верный, готовый своею грудью защитить ее даже против него – „изверга Аракчея“», – мысленно продолжал злобствовать фон Зееман.
Граф Аракчеев, сидя в кабинете, второй раз перечитал письмо жены, а затем стал припоминать мельчайшие подробности катастрофы с Бахметьевой. Он тотчас же приказал тогда произвести тщательное дознание, по которому оказалось, что в вечер исчезновения Екатерины Петровны в доме была только одна старуха Агафониха, которая показала, что барышня ушла из дому под вечер, приказав ей ставить самовар, и более не возвращалась. Прислуга же была частью отпущена со двора, а частью разослана за покупками. По показанию некоторых из соседей, они видели под вечер стоявшую у ворот крытую повозку, запряженную тройкой сильных деревенских лошадей.
Он сам, наконец, ездил в дом Бахметьевой и застал еще там Агафониху, собиравшуюся в дорогу. В ней он узнал любимицу Минкиной.
– Ты как попала сюда, старая карга? – спросил ее граф.
Старуха даже присела от испуга.
– Отвечай!
– Еще в Грузине, батюшка, ваше сиятельство, обласкала меня покойная барышня, царство ей небесное, так я сюда к ней гостить и шастала, тайком от Настасьи Федоровны…
– Тайком ли, старая?
– Видит Бог, тайком… Настасья Федоровна ни сном, ни духом ни о чем не ведает…
Граф прекратил допросы, но все это показалось ему настолько подозрительным, что он решил во что бы то ни стало обнаружить истину.
«Настасьино это дело! Как пить дать, Настасьино! Ревнива она у меня, словно черт…» – думал граф.
Последнее приятно защекотало его самолюбие.
«Но я это дело разберу…» – закончил он свою мысль.
Получение письма от жены разрушило этот план. Самоубийство Екатерины Петровны являлось теперь для него спасительным якорем от «светского скандала» и «огласки», которые несомненно вызвали бы предлагаемый и даже почти требуемый Натальей Федоровной развод и вторичный брак с Бахметьевой, а этого «скандала» и этой «огласки» он боялся более всего на свете.
При жизни последней избежать и того, и другого было бы для него невозможно; государь и государыня были бы – он знал это – в этом деле далеко не на его стороне.
Допытываться при подобных обстоятельствах, покончила ли с собой на самом деле молодая женщина, или же это только проделка ревнивой Минкиной и ее сообщницы – последнее-то и подозревал граф – было бы более чем неблагоразумно.
Граф решил не допытываться.
Остановившись на этом решении, Алексей Андреевич с письмом жены в руках вошел снова в приемную и подошел к вставшему при его появлении фон Зееману.
– Передайте ее сиятельству, что при всем моем желании, я не могу исполнить ее просьбы, так как особа, по ходатайству которой она обратилась ко мне с письмом, несколько дней тому назад утопилась в припадке умственного расстройства… Вероятно, и к ней являлась она в болезненном состоянии.
– Утопилась?.. Бахметьева?.. – мог только произнести совершенно растерявшийся Антон Антонович. – Не может быть.
– Я никогда не лгу… – строго заметил граф. – Вы можете узнать подробности в местном квартале…
Последнюю фразу он бросил уже на ходу, медленно удаляясь по направлению к своему кабинету.
Антон Антонович прямо из дома графа поехал на Большой проспект Васильевского острова. Там от местного квартального надзирателя и из расспроса соседей он узнал все то, что уже известно нашим читателям по поводу загадочного исчезновения и самоубийства Екатерины Петровны.
Получив все эти сведения, фон Зееман отправился на 6 линию, в дом Хомутовых.
Спокойно выслушала Наталья Федоровна доклад своего верного посланного, только еще более мертвенная бледность покрыла ее исхудалое лицо и две крупные слезинки выступили на длинных ресницах.
Были ли эти слезы о погибшей ее бывшей подруге, или же об окончательно погибших последних мечтах о земном счастии – как знать?
– Царство ей небесное! – истово перекрестилась она… – Да будет Его святая воля! – добавила она после некоторой паузы.
Антон Антонович почувствовал сердцем, что молодой женщине необходимо остаться наедине и уехал.
Он спешил к тому же принести грустную весть Зарудину, нетерпеливо, как помнит читатель, ожидавшему его в этот вечер сначала в обществе Кудрина, а затем и Павла Кирилловича.
– Антон! Наконец-то ты? – встретил его Николай Павлович.
По бледному, расстроенному лицу молодого офицера он увидал, что случилось что-то неладное.
– Говори скорей, не томи…
Антон Антонович вопросительно поглядел на Андрея Павловича и Павла Кирилловича, с которыми ранее как-то растерянно поздоровался.
– Говори при них, все равно… Они знают почти все…
Фон Зееман начал свой рассказ. Он передал свое дежурство почти целый день в приемной графа, свою беседу с ним, ответ его, справки, наведенные на месте, и, наконец, свой доклад графине Аракчеевой. Он повторил сказанные ею слова: «Да будет Его святая воля!»
Бледный, как смерть, положительно убитый полученным известием, дрожащим голосом повторил эти же самые слова Николай Павлович и низко опустил голову.
Кудрин и Павел Кириллович стали обсуждать вместе с фон Зееманом загадочность смерти Бахметьевой и странность ее совпадения с вопросом о разводе.
– Она жива! – вдруг поднял голову и почти диким голосом воскликнул молодой Зарудин.
Все трое взглянули на него с испугом.
«Он сошел с ума!» – почти мгновенно у всех мелькнула одна и та же мысль.
XXII
Через десять лет
Прошло десять лет.
Много воды утекло за эти долгие годы. Россия под скипетром «благословенного» Александра, пресыщенная бранною славою, быстрыми шагами шла по пути законодательного, административного и экономического процветания. «Свод законов Российской Империи» является бессмертным памятником этой эпохи подъема государственного духа, явившегося как бы последствием подъема народного духа, выразившегося в войне 1812 года.
К числу реформ славного Александровского времени, реформ, которые исключительно осуществлены графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым, принадлежит и даже занимает среди них первое место осуществление уже известной нам «царственной мечты» – учреждение военных поселений, которые должны были образовать резерв войск и обязанны заниматься сельским хозяйством, содержать себя и, неся военную службу, быть всегда готовыми к бою.
Как из русских, так и иностранных историков видно, что учреждение поселений, несмотря на то, что это имело у нас столько порицателей, несколько озадачило Европу. Под личиною общей благодарности за избавление от порабощения, она с завистью смотрела на наше главенство, и поэтому все государства взглянули на учреждение военных поселений по новой системе, как на желание России сделаться еще сильнее. Были даже дипломатические запросы, но они не только не ослабили мысль об основании поселений, а напротив, убедили в их пользе и ускорили их осуществление. Поощрением к этому послужило еще и то, что после наполеоновских войн все державы стали увеличивать свои армии до чрезвычайных для того времени размеров.[7]
За прошедшие десять лет поселения, благодаря неутомимой, полной энергии деятельности графа Алексея Андреевича, достигли апогея своего развития.
Кроме поселенных еще в 1805 году двух батальонов в Могилевской губернии, в 1815 году началось развитие поселенной системы в Новгородской губернии, затем военные поселения появились в Харьковской губернии, в Змиевском и Чугуевском уездах, а также в Херсонской и Подольской губерниях. Численность жителей во всех этих поселениях простиралась до 700 000 душ.
Во главе всех этих поселенных войск стоял граф Аракчеев, непосредственно, впрочем, управлявший лишь поселениями в Новгородской губернии.
Горечь семейного раздора с летами исчезла совершенно. Короткое, свободное от многосложных занятий время граф проводил в своем любимом Грузине, около своего верного друга Настасьи Федоровны, ставшей полновластной хозяйкой и в имении, и в сердце своего знаменитого повелителя, и если бы не огорчения со стороны его названного сына Михаила Андреевича Шуйского, графа можно было бы назвать счастливым.
Жизнь остальных действующих лиц нашего правдивого повествования во многом изменили пронесшиеся годы, не говоря уже о Павле Кирилловиче Зарудине и Дарье Алексеевне Хомутовой, в описываемое нами время уже давно лежавших в могилах на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
Николай Павлович Зарудин вскоре по смерти отца вышел в отставку, недолго после него прослужил и Андрей Павлович Кудрин, и оба друга всецело отдались масонской деятельности.
Антон Антонович фон Зееман, произведенный за это время в полковники, жил вместе с женою своею Лидиею Павловной на 6 линии Васильевского острова, в том самом домике, где «турчанка Лидочка» провела свое детство и юность, где встретилась со своим ненаглядным «Тоней», как ласкательно называла она своего мужа. Свадьба их состоялась вскоре после отважного, хотя и неудачного визита Антона Антоновича к грозному Аракчееву. Дарья Алексеевна при жизни своей предложила поселиться молодым в ее доме, а после смерти отказала его по завещанию Лидочке.
Завещание это старушка сделала по просьбе Натальи Федоровны.
В том самом углу гостиной, где некогда притаившись любила играть в куклы маленькая Лидочка, теперь тоже сиживал, окруженный игрушками, хорошенький белокурый мальчик с блестящими черными глазами, восьмилетний сын супругов фон Зееман – «Тоня», Антон Антонович II, как в шутку называли его отец и мать.
Маленький Тоня был крестником Николая Павловича Зарудина и графини Натальи Федоровны Аракчеевой.
Породнившись духовно у купели новорожденного ребенка их счастливых молодых друзей, вскоре после разбитой самоубийством Бахметьевой последней мечты о совместном счастьи, Зарудин и графиня Аракчеева вполне, казалось, удовольствовались своей духовной близостью, своим духовным единением.
Масонские перчатки, переданные ей Николаем Павловичем, Наталья Федоровна, как реликвии, хранила в отдельной шкатулке.
Она жила в своем маленьком имении близ Тихвина, но почасту и подолгу приезжала гостить на Васильевский остров, в доме Лидии Павловны фон Зееман.
В уютной гостиной этого дома собирался тесный кружок наших старых знакомцев, живших своею особою, удаленною от света жизнью и настолько замкнуто, что даже любопытный петербургский «свет», после тщетных попыток проникнуть в их мир, оставил их в покое и как бы забыл о их существовании.
Они были очень довольны этим забвением.
Тело погибшей в волнах Невы Екатерины Петровны Бахметьевой так и не было найдено. Его или унесло в море, или же оказывался правым Николай Павлович Зарудин, все продолжавший настойчиво уверять, что Бахметьева жива.
Нянькин сын Миша, ставший дворянином Михаилом Андреевичем Шумским, окончил курс в пажеском корпусе и, служа в гвардии, считался коноводом петербургских «блазней». Слава о его скандалах и дебошах гремела в столице.
XXIII
Брат и сестра
Для обитателей села Грузина прошедшие десять лет тянулись необычайно долго. День за днем, один безусловно похожий на другой, тот же систематический порядок без малейших отступлений от раз установленной нормы.
Настасья Федоровна, живавшая, впрочем, по зимам подолгу в Петербурге, тоже чувствовала эту томительную скуку, особенно во время отсутствия графа, занятого по горло делами, и срывала свою злость по-прежнему на окружавших ее безответных крепостных девушках.
Знаменитая «домоправительница» сильно состарилась, и хотя на ее чистом лице не было ни одной морщинки, а, скорее, появилась одутловатость и выражение какой-то усталости и изнурения, но все же это не была прежняя «красавица Настасья».
Эта одутловатость и это выражение изнурения явились последствиями периодического пьянства, почти запоя, которому она предавалась за последнее время и проводимые ею бессонные ночи в отвратительных оргиях с избранными дворовыми.
Все это она с прежним искусством скрывала от зоркого глаза графа, положительно ослепленного за последнее время хитрой женщиной. Последняя употребляла для этого все средства. Подосланная ею к графу цыганка сказала ему: «Береги Настасью, пока она жива, и ты жив и счастлив». Это произвело сильное впечатление на мнительного Алексея Андреевича. Другой ее фокус заставил графа считать ее даже «прозорливицей» и своим «ангелом-хранителем». Она перед смотром позвала к себе правофлангового Свиридова и велела ему зарядить ружье пулей.
– Не бойся, – сказала она ему, – тебе ничего не будет.
Свиридов не смел ослушаться всесильной экономки. Провожая графа, она сказала ему:
– Вот ты ничего не знаешь, а тебя хотят убить. Сегодня на смотру посмотри ружье у правофлангового – оно заряжено.
Аракчеев поступил, как ему сказала Настасья, и на самом деле нашел заряженное ружье.
Он стал считать, что обязан Настасье жизнью.
Несмотря на такое положение ее в Грузине, она постоянно была в дурном расположении духа; постоянно была всем недовольна, угодить ей не было никакой возможности и бедные дворовые девушки терпели такие страшные истязания, что и вообразить было трудно. Они так были забиты и загнаны своею тиранкою, что на них больно было смотреть. Особенно доставалось красивым от злобствующей отцветшей красавицы. К числу последних и самых несчастных ее жертв принадлежала Прасковья Антоновна, выдающаяся по красоте блондинка. Характер у нее был несокрушимо твердый; никакие мучения не могли вызвать из груди ее ни стона, ни жалобы. Только по впалым и бледным щекам ее, да по большим голубым глазам, полным безотрадной грусти, было заметно, что она, при всей твердости духа, не в силах была сносить тиранства Настасьи. А над нею-то, повторяем, более всего раздражалась злоба домоправительницы. Прасковья была ее старшею горничною, она убирала ей голову, одевала ее, смотрела за ее гардеробом, и, как старшая, отвечала за все проступки прочих.
– Ну, Паша, какая ты переносливая, – говорили ее подруги, – словно ты железная!..
Прасковья глядела на них и улыбалась, но в этой улыбке выражалась вся безнадежность ее страданий.
Было 6 сентября 1825 года.
Настасья Федоровна сидела перед зеркалом, совершая свой утренний туалет. Прасковья Антоновна стояла около нее и щипцами припекала ей волосы, завернутые в папильотки. Вдруг щипцы случайно скользнули и слегка коснулись уха Минкиной.
Она вскрикнула и вскочила в припадке страшного бешенства.
– Ты жечь меня вздумала, жечь! – кричала она, скрипя от злости зубами. – Так вот же тебе!
Минкина выхватила из рук Паши щипцы, разорвала ей рубашку и калеными щипцами начала хватать за голую грудь бедной девушки. Щипцы шипели и дымились, а нежная кожа лепестками оставалась на щипцах. Паша задрожала всем телом и глухо застонала; в глазах ее заблестел какой-то фосфорический свет, и она опрометью бросилась вон из комнаты.
Брат Паши, Василий Антонов, молодой парень, лет девятнадцати, находился поваренком в графской кухне. Он увидал в окно, что сестра его побежала растрепанная по направлению к Волхову. «Что-нибудь, да не ладно!» – подумал он и погнался за ней.
Он едва догнал ее на самом берегу и схватил за руку.
– Пусти меня, пусти! – бормотала Паша, стараясь освободиться из рук брата.
– Куда пусти? Что с тобой? Куда ты? – спросил он.
– В воду… топиться… – отрывисто отвечала она.
С ней вдруг сделался сильный истерический припадок. Она хохотала, прерывая хохот рыданиями, и упала на руки Василия, который бережно опустил ее на траву, сам не зная что делать.
– Паша!.. Парасковья!.. Что с тобой?.. Что это ты задумала? – говорил растерявшийся парень, ходя вокруг сестры.
Та продолжала метаться на траве и рыдать. Наконец, Василий догадался, стал пригоршнями носить воду и поливать на голову и грудь бедной девушки. Она очнулась.
– Дай мне испить, – проговорила девушка слабым голосом. Брат принес воды и сел возле сестры.
Паша молча показала брату свою сожженную грудь.
– Кто это так тебя истерзал? – с тревогой в голосе спросил он.
Она рассказала брату только что испытанные мучения от злобной Настасьи.
Во время этого рассказа Василий молчал. Он только изредка поскрипывал зубами, глаза его налились кровью, а кулаки судорожно сжались.
– Змея подколодная! – прошипел он, когда сестра окончила свой рассказ.
Наступило довольно продолжительное молчание, прерываемое болезненными вздохами Паши и скрипом зубов Василия.
Придя немного в себя, он начал что-то шептать на ухо Паше. Та отрицательно качала головой. Он горячился, махал руками. Наконец, Паша сама стала говорить что-то шепотом на ухо брату.
Долго они шептались и, по-видимому, о чем-то жарко спорили, наконец, Паша сказала громко:
– Ну, ладно! Будь что будет!
Оба они встали с травы и медленно вернулись на графский двор. Паша, по-прежнему спокойная, бесстрастная, прошла во флигель Минкиной.