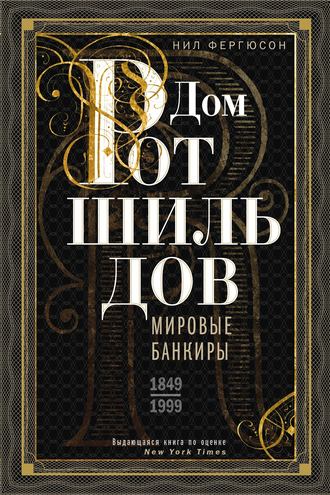
Ниал (Нил) Фергюсон
Дом Ротшильдов. Мировые банкиры. 1849—1999
Разумеется, задача заполнить все эти дома соответствующей мебелью и украшениями так и не была завершена. Перед одной из многочисленных поездок в Париж Шарлотта составила список покупок, куда входили мраморные статуи за 2 тысячи ф. ст.; четыре статуэтки; хрустальная люстра; четыре бюста римских императоров; «две чудесные вазы россо антико, украшенные великолепной резьбой, с изображением Нептуна, окруженного тритонами и морскими нимфами» за 5 тысяч гиней; кроме того, она купила стол за 150 ф. ст. Год спустя лондонские торговцы произведениями искусства предлагали ей, среди прочего, «картину Рубенса, чудесный камин работы Иниго Джонса, красивую картину сэра Джошуа [Рейнолдса], на которой изображена красивая женщина… и, последнее, хотя и не менее важное, давно обещанную мистером Расселом японскую или китайскую коллекцию». Снобы вроде Гонкуров любили насмехаться над доверчивостью Ротшильдов, когда те имели дело с торговцами произведениями искусства: в одном из их злорадных анекдотов Ансельм предлагал одному оптику 36 тысяч франков, если тот сумеет изобрести «такой лорнет, который придавал бы ему способность видеть глазами человека со вкусом»; в другой истории Джеймс подарил дочери торговца красивое платье, чтобы обеспечить за собой картину Веронезе по приемлемой цене. На самом деле Ротшильды очутились в элите коллекционеров искусства; может быть, даже возглавили ее. «Пустяковый маленький Рафаэль за 150 тысяч франков, Кёйп за 92 тысячи франков, – писал братьям Нат с одного парижского аукциона в 1869 г. – Сейчас нужно иметь много денег, чтобы покупать картины», – или, как выразился его кузен Гюстав, «деньги, которые можно потратить сразу же». Но у кого водились такие деньги, если не у Ротшильдов?
На фоне такой бурной деятельности перестройка здания банка в Нью-Корте в начале 1860-х гг. казалась запоздалой. Конечно, Шарлотта считала новое здание «просто чудесным, предназначенным для великих дел». Остается понять, насколько политика – не говоря об искусстве и архитектуре – отныне отвлекала младшее поколение Ротшильдов от выполнения этого предназначения.
Глава 2
Эпоха мобильности (1849–1858)
[M]oi, je serais charmé de faire une niche à ce juif qui nous jugule[34].
Кавур
1850-е гг. стали для Ротшильдов трудным временем; по крайней мере, такова традиционная точка зрения. Во-первых, Луи Наполеон Бонапарт, к которому Джеймс всегда относился настороженно, уничтожил республиканскую конституцию и провозгласил себя императором, наследником и преемником своего дяди. Во-вторых, министром финансов стал конкурент Джеймса Ашиль Фульд – младший брат Бенуа Фульда, которого Гейне назвал «главным раввином левого берега Сены». Если верить часто цитируемым словам графа Виль-Кастеля, Фульд сказал Наполеону: «Совершенно необходимо, чтобы ваше величество освободилось от опеки Ротшильда, который правит, невзирая на вас». В-третьих, появление новых «универсальных» банков вроде «Креди мобилье», плода умственных усилий бывших помощников Джеймса братьев Перейра, угрожало главенству Ротшильдов не только во Франции, но и во всей Европе. И наконец, 1850-е гг. характеризовались международной нестабильностью: впервые после 1815 г. стал явью всегдашний страшный сон Ротшильдов о полномасштабных войнах между великими державами, сначала в Крыму (где Великобритания и Франция воевали с Россией из-за Турции), а затем в Италии (где Франция сражалась с Австрией из-за Италии).
Однако такой взгляд является обманчивым в двух отношениях. Из-за того что историки чрезмерно полагаются на такие предвзятые источники, как дневники графа Хюбнера, сменившего Аппоньи на посту австрийского посла, они склонны преувеличивать трудности, пережитые Джеймсом при Луи Наполеоне. Более того, дневники слишком франкоцентричны: трудности, которые испытывал Джеймс, не следует рассматривать изолированно в такое время, когда другие дома Ротшильдов процветали.
Два императора
То, что Хюбнер изобразил отношения Бетти с генералом Шангарнье как романтические, можно считать злым умыслом. На самом деле ее недавно обнаруженные письма к Альфонсу во время его поездки в Америку свидетельствуют о том, что первые впечатления Шарлотты о генерале были совсем не благоприятными. Он показался ей «худым, уродливым мужчиной среднего роста, в котором нет ничего военного, кроме усов. С первого взгляда он кажется старым и изнуренным». В январе 1849 г., когда Шангарнье ужинал у них, он «старался быть как можно занимательнее и очень желал угодить», но «в этом отношении… преуспел лишь отчасти. Я не нахожу в нем… открытости и преданности, за которые его, по слухам, так часто хвалят; наоборот, он произвел на меня впечатление человека скорее двуличного…». Ханна признавалась Дизраэли, что Шангарнье произвел на нее впечатление человека строгого и нетерпимого: как-то раз, когда его пригласили на ужин к Ротшильдам и предупредили, что там же будет один прославленный оперный певец, он отказался и «сделал выговор [Бетти] за то, что она пригласила за свой стол певца». На том этапе Бетти еще не отказалась от мысли помириться с Луи Наполеоном. В апреле она писала сыну, что дела у президента «идут хорошо. Каждый день он дает определенные доказательства его [веры во]… власть закона и порядка». Она была настолько убеждена в этом, что «наконец разбила лед и стала появляться в салонах президента. Мне трудно было бы и дальше избегать их, если я не хотела произвести впечатление политической упрямицы».
С другой стороны, не приходится сомневаться: Шангарнье говорил все, что нужно, желая успокоить женщину, которая резче остальных членов семьи высказывалась против революции. «Он, – одобрительно писала Бетти, – реакционер нужного сорта… Позавчера, в разговоре о символе третьей добродетели на наших флагах, он сказал мне: «Я так ненавижу братство, что, будь у меня брат, я бы называл его своим кузеном». Вскоре она уверяла Альфонса: «Мой друг Шангарнье удержит безумцев в узде» – и добавляла, что семья «под защитой нашего достойного Шангарнье». «В нашем превосходном Шангарнье, – уверяла она в июне, – мы обрели верного друга, который прекрасно знаком с тем, что происходит… и даст нам знать [о беспорядках] немедленно. Не могу передать, насколько благороден этот человек, какое у него возвышенное сердце и какая преданная душа, насколько он открыт, этот бывший герой, в котором соединяются рыцарская отвага, целеустремленность и решимость… Такие качества не могут не привести к успеху». Если она говорила нечто подобное на публике, наверное, нет ничего удивительного в том, что Хюбнер усмотрел в их отношениях не только политическую, но и амурную сторону. Даже Ханна, тетка Бетти, сдержанно отмечала, что Шангарнье «весьма предан семье, придерживается высокого мнения о таланте и способностях Бетти, ценит отвагу и активность членов семьи во время революции и, похоже, заботится об их благосостоянии». Джеймс со своей стороны со смесью восхищения и смущения писал, что, хотя Шангарнье охотно передает ему щекотливые политические сведения (например, касающиеся политики Франции в так называемом «деле Пасифико»), он вовсе не стремился что-то выгадать на своих новостях: «Шангарнье никогда не был замешан [в спекуляции] и никогда не говорил мне, что хочет спекулировать. Более того, не сомневаюсь, если бы я предложил ему или его адъютанту нечто подобное, он больше не принимал бы меня и не принимал моих приглашений. Он единственный в своем роде; других таких я не знаю!» Бонапарт же, в отличие от Шангарнье, был весьма рад возможности спекулировать – но не с Джеймсом.
Весь 1850 г. Джеймс старался примирить двух человек, все больше сознавая преимущество Наполеона, что могло сулить ему неприятности. «Возможно, президент считает, что я поступил с ним несправедливо, – писал он в январе 1850 г., – поэтому он, судя по всему, не слишком высокого мнения обо мне, тем более что Фульд мне отнюдь не благоволит. Хвала Всевышнему, он мне не нужен».
Такие слова предполагают, что и Джеймс со своей стороны не доверял Фульду (дело усугублялось тем, что Фульд женился на не-еврейке). И все же не следует превратно понимать характер их соперничества – они часто виделись, причем относились друг к другу с уважением, пусть и скрепя сердце: Джеймс признавал, что иметь одного брата банкиром, а другого – министром финансов «совсем неглупо». Про себя же Джеймс считал, что попал в невыгодное положение и в бизнесе, и в политике. «К сожалению, – ворчал он, – я с досадой вижу, что дело у нас отнимают, и мы уже не те, что были прежде». Но неверно предполагать, что неудача с выпуском рентных бумаг в конце 1850 г. стала симптомом ослабления его финансового влияния. На самом деле Джеймс подготовил заявку, но не участвовал в аукционе из-за смерти четырехлетнего сына Ната, Майера Альберта, чьи похороны совпали с аукционом, проводимым министерством финансов. Хотя Джеймс был в трауре, он не мог не радоваться тому, что в его отсутствие аукцион, проводимый Фульдом, превратится в «фиаско»: «Теперь они поймут, что Ротшильда нельзя оттеснить в сторону, как хотел Фульд».
По правде говоря, Джеймса больше заботила дипломатия, нежели финансы. Он боялся, что переменчивая внешняя политика президента может привести Францию к трениям, если не к войне, с другими великими державами: Великобританией (из-за «дела Пасифико») или Пруссией (из-за Германии). В рассказе Ширака о том, как Джеймс пытался смягчить французскую политику в конце 1850 г. на встрече с Наполеоном и Шангарнье, есть зерно истины. «Полно фам, тафайте посмотрим, в чем там дело, в этой ссоре из-за Германии! – предлагал Джеймс. – Рати всего святого, тафайте притем к какому-нибудь соклашению, тафайте притем к соклашению!» Наполеон в ответ якобы просто повернулся к нему спиной. Джеймс в самом деле несколько раз виделся с Наполеоном в 1850 и 1851 гг.; но он никогда не утверждал, что ему удалось повлиять на политику президента. Наоборот, он ворчал, что президент «ничего так не любит, как играть в солдатиков»; он называл Луи Наполеона «ослом… который кончит тем, что настроит против себя весь мир». Особенно сильное дурное предчувствие Джеймс испытывал по поводу того, что Франция могла вмешаться в ссору Австрии и Пруссии, которая вспыхнула во второй половине 1850 г. Хотя он по-прежнему боялся, что в конце концов окажется «в руках красных», Джеймс не очень пожалел бы, если бы Луи Наполеона «прогнали, как Луи Филиппа» за его ошибки во внешней политике.
Все это объясняет, почему Джеймс все больше нервничал по мере приближения бонапартистского государственного переворота. Уже в октябре 1850 г. он начал переводить золото в Лондонский дом, объяснив племянникам, что «он скорее будет держать все его золото там, заработав 3 % на депозите, чем вложит его в рентные бумаги или будет держать в погребе, когда такой человек [как Наполеон] может отобрать его деньги за то, что он дружил с Шангарнье». Он уверял: «Я не боюсь, но стремлюсь проявить осторожность. С политической точки зрения это несчастная страна». В то же время Джеймс все откровеннее демонстрировал свои политические пристрастия: так, он сохранил дружбу с Шангарнье даже после того, как последнего отстранили от командования армией и национальной гвардией. В октябре 1851 г. Джеймс писал племянникам, что у «нашего генерала» есть «большие надежды». «Подозреваю, что до того, как они осуществятся, – встревоженно добавлял он, – Париж будет залит кровью. Я продал все мои рентные бумаги». Можно смело утверждать: Джеймс не зря боялся того, что его тоже могут арестовать вместе с Шангарнье и другими лидерами республиканцев, когда в ночь с 1 на 2 декабря произошел переворот. Что символично, он упал с лестницы и растянул ногу за неделю до «Операции Рубикон» (кодовое название переворота), поэтому, когда бонапартисты нанесли удар, он буквально лежал без движения. Ничего удивительного, что в его письмах в Лондон сразу после переворота нет ни слова о политике. Как объяснял сам Джеймс, у него есть основания опасаться, что его письма перехватывают. К счастью для историка, Бетти при встрече с Аппоньи оказалась не столь осторожной. Поэтому сейчас мы имеем довольно полное представление о ее тогдашнем настроении: «Она считает, что президенту удалось лишь прийти на помощь красным, что в политике он вынужден будет метаться из крайности в крайность и в конце концов станет орудием [их] демагогии. «Чтобы и дальше идти той дорогой, какую избрал президент, он обязан пугать нас демагогией [имея в виду крайне левую]; следовательно, он не может полностью уничтожить ее; поэтому я боюсь, что, вместо того, чтобы спасти общество, он, наоборот, погубит его, перейдя к личной власти».
Однако Джеймс никогда не смешивал свои политические предпочтения и деловые интересы. За исключением того, что ему нравился Шангарнье, он не считал себя обязанным хранить верность республике и новое положение принял, по выражению Хюбнера, «с большим смирением». Перейра сделал обнадеживающий обзор текущего положения на импровизированном собрании банкиров на улице Лаффита. Присутствовавшие «не совсем обвиняли Луи Наполеона в том, что он решил покончить с [конституцией] до 1852 г.; последнее считалось более или менее неизбежным; все беспокоились только из-за того, что он ведет опасную игру. Сообщали, что арестованы несколько генералов; боялись, что это может привести к расколу в армии, что, как утверждали, станет концом Франции, кто бы ни стал победителем. Перейру забрасывали вопросами. Он описывал то, что видел: добродушие офицеров; воодушевление солдат, обилие войск на улицах, равнодушие тех, кто читал прокламации, безмятежность Парижа, несмотря на утренние сюрпризы. Великие финансисты слушали обнадеживающие новости с радостью».
Более того, вскоре стало очевидно, что, нанеся сокрушительный удар по левым республиканцам и объявив о своей поддержке экспансионистской кредитной политики, Наполеон готовил климат финансового оптимизма. Красноречивее всего об отношении к тогдашним событиям свидетельствует цена ренты. Накануне переворота трехпроцентные рентные бумаги котировались по 56, а пятипроцентные – по 90,5. Сразу после переворота цены выросли до 64 и 102,5 соответственно, а к концу 1852 г., в первую годовщину переворота, когда Наполеон объявил себя императором, трехпроцентные рентные бумаги котировались по 83; после перехода от республики к империи доходы от прироста капитала выросли почти на 50 % (см. ил. 2.1). О том же свидетельствуют цифры валовых инвестиций в железные дороги: после периода стагнации в 1848–1851 гг. в период до 1856 г. инвестиции возросли пятикратно. Джеймс в течение некоторого времени ощущал, что экономические и политические события не скоординированы; даже военные шрамы и внутренние опасения до переворота не оказались такими дестабилизирующими, как он сам предсказывал. «Если послушать политиков, – заметил он в 1850 г., – можно подумать, что все пропало; если послушать финансистов, они скажут, что все наоборот». Но начиная со 2 декабря политика и экономика снова развивались в унисон благодаря правительству, которое сознательно отождествляло состояние собственного здоровья с состоянием здоровья биржи.
Итак, бонапартистский режим был для Джеймса далеко не идеальным исходом; он скорее предпочел бы, чтобы Шангарнье подготовил почву для реставрации Орлеанского дома. Но, как только стало очевидно, что у Наполеона III нет намерений наказывать его лично, Джеймс решил, что с императором можно смириться. В октябре 1850 г. он показал себя провидцем, охарактеризовав свое положение так: «В конце концов у нас будет император, который кончит войной, ибо, если бы я так не боялся войны, я сам стал бы империалистом». После переворота он поспешил признать, что конкуренты обойдут его, если заподозрят в слишком тесных связях с аннулированной республикой. В то время как Бетти демонстрировала «деморализацию» по отношению к Наполеону, удалившись во внутреннюю ссылку в Ферьер, ее мужу (в очередной раз) пришлось идти в ногу со временем. «По-моему, Наполеон набирает силу, – писал он в Лондон всего через три недели после переворота, – несмотря на то что люди достойные не принимают его приглашений. Вы думаете, что нам тоже нужно держаться от него подальше?» Вопрос был риторическим. Даже женщины из семьи Ротшильд не могли продолжать свой общественный бойкот до бесконечности. В самом деле, еще до конца декабря их отношение постепенно сделалось более мягким. «Безмятежное настроение Ротшильдов, – язвительно писал Аппоньи после встречи с женой Ната Шарлоттой и Бетти, – вызвано огромными количествами денег, которые они сейчас наживают, из-за того, что все облигации и акции, которые имеются в их портфеле, резко растут в цене».

2.1. Еженедельная цена закрытия на французские 3 %– и 5 %-ные рентные бумаги, 1835—1857
С тех пор как Джеймс обосновался в Париже, у него на глазах сменилось уже пять режимов, если не больше. Судя по всему, ему все труднее было воспринимать подобные события со всей серьезностью. «Мои милые племянники, как вам нравится французская конституция по два су? Именно за такие деньги ее продают на улицах». Абсолютизм он считал «не очень хорошим; зато… теперь можно делать что хочешь, и все забыто». Уже в октябре 1852 г. Джеймс оживленно сообщал, что он «в прекрасных отношениях с императором и всеми остальными»; примечательно, что он писал эти строки за целых два месяца до того, как Наполеон в самом деле провозгласил себя императором. Письмо, кроме того, написано всего за несколько дней до знаменитой речи Наполеона в Бордо, в которой он заявил: L’Empire, c’est la paix («Империя – это мир»). Казалось, тем самым устраняются внезапные случаи нарушения бельгийского нейтралитета, а также трения с Пруссией из-за Рейнской области, которые доставляли много забот в предыдущие два года. Возможно, этим объясняется, почему другие великие державы признали Наполеона императором лишь после символических уверток.
Конечно, наладить отношения оказалось вовсе не так просто: в январе 1853 г. Джеймс по-прежнему испытывал трудности, когда желал увидеться с новым императором. Однако в его распоряжении имелись два пути к новому двору. Во-первых, он оставался австрийским генеральным консулом и часто надевал свой алый мундир, чтобы напомнить всем, кто забыл, о своем дипломатическом статусе. В августе 1852 г. ему удалось передать Наполеону успокаивающее письмо от нового австрийского императора Франца Иосифа; и хотя Хюбнер всячески старался подорвать стремление Джеймса представлять в Париже Вену, он никак не мог его сместить, пока банк Ротшильдов оставался австрийским. Второй путь заключался в том, что Джеймс стремился завоевать доверие Наполеона, взяв под свою защиту Евгению Монтихо, авантюристку полуиспанского-полушотландского происхождения, которую снобы-парижане считали просто очередной любовницей Наполеона. Наполеона познакомили с ней в 1850 г., и к концу 1852 г. он был без ума от нее. После того как пришлось расстаться с надеждой заключить дипломатический брак с принцессой Аделаидой Гогенлоэ (одной из племянниц королевы Виктории), Наполеон, к ужасу своих министров, внезапно решил жениться на Монтихо.
Однако это решение было еще тайной 12 января, когда Евгения приехала на бал в Тюильри. Ее вел под руку не кто иной, как Джеймс, который, как отметил Хюбнер, давно подпал «под власть чар молодой андалусийки, но теперь более, чем когда-либо, ибо он был одним из тех, кто верил в брак». Один из сыновей Джеймса – скорее всего, Альфонс – сопровождал мать Евгении. Когда партия вошла в Маршальский зал дворца, намереваясь поискать места для дам, жена министра иностранных дел Друина де Люи надменно сообщила Евгении, что места, о которых идет речь, оставлены для жен министров. Услышав это, Наполеон подошел к двум дамам и предложил им места на императорском возвышении. Два часа спустя император и Евгения скрылись в его кабинете, а позже вернулись рука об руку. Через три дня он сделал ей предложение; 22 января помолвку предали гласности; еще через неделю состоялась свадьба. «Предпочитаю жениться на молодой женщине, которую я люблю и уважаю», – заявил Наполеон. «Можно любить женщину, но не уважать ее, – заметила вскоре после того жена Ансельма Шарлотта, – но женятся только на женщинах, которых уважают и почитают». Этот комплимент – довольно вымученный, учитывая привычку Ротшильдов проводить различие между романтической любовью и браком, – был должным образом передан новобрачным.
Конечно, значение таких шагов не стоит преувеличивать; с другой стороны, современному читателю легко забыть, как серьезно в XIX в. относились к сложным придворным ритуалам, тем более при дворе непредсказуемого выскочки, который получил трон в результате государственного переворота, а свою законность подтвердил тщательно организованным плебисцитом.







