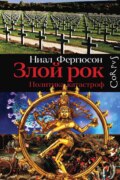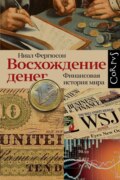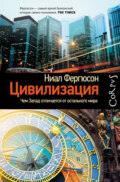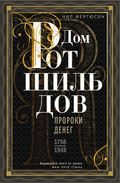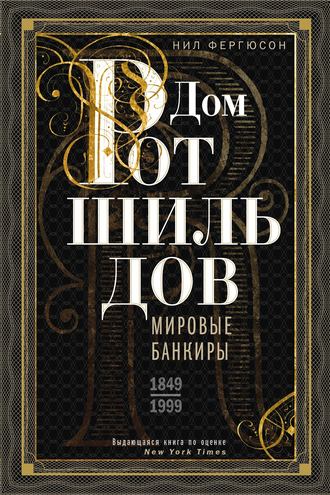
Ниал (Нил) Фергюсон
Дом Ротшильдов. Мировые банкиры. 1849—1999
Такой же интерес представляли линии, которые вели из Австрии на запад, в Баварию. Франкфуртский дом принял активное участие в финансировании одной из первых железных дорог на юге Германии, так называемого Таунусбана, линии, которая соединяла Франкфурт с Висбаденом; в 1853 г. Таунусбан продлили до Нассау. В 1855 г. Франкфуртский дом продолжил финансировать железные дороги, вступив в консорциум с Хиршем, д’Эйхталем, Бишоффсхаймом и другими для финансирования Остбана в Баварии, линии, которая связывала Нюрнберг с Регенсбургом, Мюнхеном и Пассау на границе с Австрией. Кроме того, делались предложения продлить Остбан на север, через Швайнфурт в Бебру. Поэтому логичным шагом для группы Ротшильдов стала концессия на строительство линии, соединявшей Вену, Линц и Зальцбург («Вестбан имени императрицы Елизаветы»): на сей раз Парижский и Венский дома предоставили 30 из требуемых 60 млн гульденов. Куда больше трудностей возникало с линиями, ведущими на восток. И здесь первыми успели Перейры; они закрепили за собой восточное продолжение линии Вена – Будапешт до Сегеда и Тимишоары (Ориентбан имени Франца Иосифа), которая соединялась с государственной Южной линией (Зюдбан). Планам Перейров в очередной раз помешала нехватка средств. Вдобавок к приобретению Венгерской Дунайской пароходной компании группа Ротшильдов нанесла удар на юге, на территории нынешних Словении и Хорватии, купив (с помощью Талабо) линию, ведущую в Аграм (Загреб) и Сисак. Судя по всему, Ротшильды сотрудничали и с Оппенгеймами, которые приобрели концессию на прокладку линии, связывавшей Виллах и Клагенфурт в Австрии с Марибором в Словении.
В августе 1858 г., представив себе «гигантское предприятие», в результате которого эти разные линии стали бы связаны с Веной и Триестом, поглотив и Ориентбан имени Франца Иосифа, и Зюдбан, Джеймс, по его признанию, «дрожал». И все же он довел дело до конца: через месяц они с Талабо выкупили Зюдбан у австрийского правительства за 100 млн гульденов и объединили с Ломбардской дорогой и дорогой имени Франца Иосифа. В результате образовался железнодорожный гигант: «Южноавстрийская железнодорожная компания юга Австрии, Ломбардии, Венеции и Центральной Италии». Кроме того, поговаривали о прокладке железнодорожного сообщения от Трансильвании в Бухарест в получивших автономию княжествах Валахии и Молдавии[49]. Казалось, лишь вопрос времени, когда сеть линий, акционерами которых были Ротшильды, протянется в Константинополь и на черноморское побережье.
Здесь необходимо сделать одну оговорку. С того времени, когда был создан «Кредитанштальт» и начался процесс слияния железных дорог, контроль Ротшильдов неизбежно размывался. Не следует считать, что все вышеописанные шаги были инициированы или даже всецело одобрены Джеймсом или Ансельмом. Джеймс не скрывал опасений, узнав о планах прокладки линии в Бухарест, цель которой (судя по предложенному маршруту вдоль австрийской границы) была скорее военной, чем коммерческой. Летом 1858 г. Ансельм даже угрожал выйти из правления «Кредитанштальта», «потому что [он] не одобрял того, как там ведутся дела». Свою угрозу он осуществил на следующий год. Впрочем, его уход вовсе не означал полного разрыва отношений между банком и его основателем, так как в 1861 г. место Ансельма в правлении занял его сын Натаниэль. Поступок Ансельма свидетельствует только о том, что не следует отождествлять Ротшильдов и «Кредитанштальт». Точно так же следует проявлять осторожность при употреблении таких фраз, как «группа Ротшильдов», при ссылках на довольно свободную коалицию инвесторов, которая встала во главе австрийской железнодорожной системы, а также, если уж на то пошло, Ротшильдов и их деловых партнеров во Франции.
И лишь один крупный европейский регион Ротшильды уступили соперникам: Россию. После Крымской войны многие делали робкие намеки правительству нового царя о возможности развития российской железнодорожной сети, которая тогда находилась в зачаточном состоянии. Однако Джеймс, получивший пессимистические доклады о возможной рентабельности новых линий, охотно предоставил в России инициативу Перейрам. Его пессимизм подтвердился, когда Бэринги задумали собрать в Лондоне около 2,8 млн ф. ст. на создание Российской железнодорожной компании и прокладку линии, которая должна была связать Варшаву и Санкт-Петербург. Замысел потерпел фиаско и навлек на Бэрингов много нападок со стороны русофобской прессы. Любопытно, что в 1858 г. Джеймс ненадолго вспомнил о своем прежнем замысле основать отделение Дома Ротшильдов в Санкт-Петербурге; но когда он как бы между делом предложил Альфонсу или Гюставу провести «несколько лет», занимаясь «учреждением в Петербурге», то вовсе не потому, что его привлекали тамошние деловые возможности, а лишь потому, что ему казалось, будто новое учреждение «способно внести свой вклад в эмансипацию евреев».
Итак, в конце 1858 г. Ротшильды отразили вызов, брошенный им не только во Франции, но и на всем Европейском континенте. Во многом это стало возможным потому, что, в то время как средства Перейров оставались в основном парижскими, средства Ротшильдов были поистине многонациональными, а их империя в течение 1850-х гг. дотянулась даже до новых золотых приисков в Калифорнии и Австралии. Благодаря подавляющему превосходству в годы Крымской войны Ротшильды восстановили свое главенство в области европейских государственных финансов. В то же время благодаря их союзу с Банком Франции в период спада 1856–1857 гг.
удалось сохранить конвертируемость валюты, а реформы, которые могли бы облегчить положение Перейров, были отклонены. Последовавшее затем состязание за контроль над железными дорогами Центральной и Южной Европы было неравным. Тем не менее для того, чтобы закрепить за собой важнейшие железнодорожные линии, связавшие Австрию с Германией, Италией, Венгрией и Балканами, Ротшильдам пришлось подражать Перейрам: они учредили собственные варианты «Креди мобилье» в Турине и, что еще важнее, в Вене. После того периода, в силу усложнения структуры, все труднее становится рассматривать растущую деловую империю Ротшильдов как один цельный организм, каким, несомненно, считал империю Джеймс. До 1859 г. Ротшильдам везло в одном знаменательном аспекте: во время Крымской войны они стали кредиторами победителей, а не побежденных. Настоящее испытание ждало их в 1859–1870 гг., когда они неоднократно оказывались по обе стороны решающих конфликтов, которым суждено было перекроить карту Европы.
Глава 3
Национализм и многонациональность (1859–1863)
Потеря Ломбардии… это потеря его железных дорог и дивидендов по его займу!
Граф Шефтсбери, 1859
Вечером в четверг, 14 января 1858 г., в доме Альфонса де Ротшильда на улице Сент-Флорентен ужинал австрийский посол в Париже. Вдруг из Дома Ротшильдов прибыл клерк со срочным посланием. Джеймс, который также присутствовал на ужине, вышел из комнаты, но почти сразу же вернулся – «очень бледный», по словам Хюбнера, – и сообщил собравшимся, что итальянские террористы покушались на жизнь Наполеона III и императрицы Евгении. Понял ли Джеймс, что покушение послужит катализатором еще одного вмешательства Франции в итальянские дела, на сей раз решительно на стороне «революции» и против Австрии? Такое кажется маловероятным; было бы логичнее ожидать, что оставшийся невредимым император выступит против итальянского националистического движения. Вначале он именно так и поступал.
И все же, хотя Наполеон согласился на казнь своего вероятного убийцы, Феличе Орсини, император предпочел воспользоваться им как способом для странного выражения сочувствия делу национализма: перед казнью были преданы огласке два письма, предположительно написанные Орсини. В первом из них утверждалось, что, «пока Италия не вернет независимость, ни ваше величество, ни Европа не могут быть уверены в мире». Если даже этот призыв к оружию составил не он сам, Наполеон, несомненно, собирался на него ответить. Почти сразу же он обратился к правительству Пьемонта; 20 июля он встретился с Кавуром в Пломбьере, где обсуждалось не что иное, как перекройка карты Италии: в обмен на Савойю, по предложению Кавура, Наполеон должен был помочь Пьемонту создать Королевство верхней Италии «от Альп до Адриатики», которое затем образует Итальянскую федерацию с Папской областью, Королевством обеих Сицилий и оставшимися государствами Центральной Италии. Однако лишь в январе 1859 г. Франция и Пьемонт подписали официальное соглашение, символически скрепленное браком дочери Виктора-Эммануила Клотильды и имевшего сомнительную репутацию кузена Наполеона, принца Жерома (кроме того, Франции ради общего блага пожертвовали Ниццу). Но дипломатические маневры промежуточных месяцев, которые сопровождались неоднократными нападками на Австрию во французской прессе, давали Джеймсу все больше поводов для беспокойства – во всяком случае, так казалось.
5 декабря Джеймс отправился к Наполеону с жалобой на статью, которая появилась накануне в «Монитер». Вдохновителем статьи, без ведома императора, выступил Жером. Наполеон, после неловкой паузы, заверил Джеймса, что он «не собирается производить перемены в Италии»; несмотря на его недовольство политикой Австрии, он «уверял его… в своих миролюбивых намерениях». Однако через месяц Наполеон объявил Хюбнеру, что «если отношения [между Францией и Австрией] не так хороши, как ему бы хотелось, это ни в малейшей степени не повлияет на его чувства к его монарху»; слова императора нисколько не успокоили Джеймса, который на следующий день навестил Хюбнера вместе с английским послом Коули в состоянии «большой тревоги». Как передавал Хюбнер, на Парижской бирже началась паника. Позже Джеймс снова отправился к императору, который уверял его, что он не собирался оскорблять Хюбнера. Джеймс «вернулся вполне довольный и добился того, что акции на бирже пошли вверх». Однако всего через три дня рынок снова просел после объявления о браке Жерома и Клотильды; сам Наполеон признал, что, хотя Франция за него, биржа не на его стороне. 23 января, когда Джеймс ездил охотиться с императором, последний многозначительно жаловался на то, что Австрия укрепляет военное присутствие в Италии, и предупреждал, что Австрия «может напасть на Пьемонт». Игра в загадки продолжалась: в конце следующей недели Джеймс спросил, размещать ли ему заем для Австрии. Наполеон не возражал; но в феврале Джеймс заверил Хюбнера, что банк «Братья де Ротшильд» «решительно отказался давать деньги пьемонтцам, пока не устранится всякая угроза войны», несмотря на прямую просьбу со стороны Жерома. 10 марта на бирже вновь началась паника после слухов о том, что попытка Англии взять на себя роль посредника на переговорах провалилась. Хюбнер снова написал о встревоженности Джеймса. Но через две недели, после предложений России о конгрессе и требования Австрии о разоружении Пьемонта, когда в Париж приехал сам Кавур, всем показалось, что кризис снова слабеет. «Итак, господин барон, – обратился Кавур к Джеймсу, по словам очевидцев, – правда ли, что биржа поднимется на два франка в тот день, когда я подам в отставку с поста премьер-министра?» – «Ах, господин граф, – ответил Джеймс, – вы себя переоцениваете!» Примерно в то же время Джеймс стал автором еще одной остроты, ядовито намекавшей на знаменитую речь Наполеона в Бордо, которую тот произнес за семь лет до того: «Император не знает Франции. Двадцать лет назад можно было объявить войну, не нарушив всеобщего спокойствия. Тогда едва ли у кого-то, кроме банков, имелись государственные или коммерческие ценные бумаги. А в наши дни железнодорожные купоны или трехпроцентные облигации есть у каждого. Император был прав, говоря: «Империя – это мир», но он не знает другого: если начнется война, империи конец».
«Нет мира, нет империи», – мрачно говорил он, а-ля Нусинген. То же самое было в Лондоне, где Лайонел подробно информировал о развитии событий Дизраэли, который получил министерский пост благодаря отставке Палмерстона после дела Орсини. 14 января Дизраэли писал Дерби, передавая сведения, которые, несомненно, поступили из Нью-Корта: «Тревога в Сити велика: в Средиземноморье прекратилась всякая торговля». Ценные бумаги упали не менее чем на 60 млн ф. ст., по большей части во Франции. Еще одна такая неделя сломит Парижскую биржу. «И все потому, что один человек решил все растревожить». В Сити надеются только на одно – что правительство не станет вмешиваться. «Хотя все было решено за несколько дней, пройдут месяцы, прежде чем восстановится спокойствие и мы окажемся накануне огромного процветания».
Сам Лайонел в своей предвыборной речи от 16 апреля призывал к «сильному правительству», все равно, либеральному или консервативному, способному ответить на «критические» события на континенте. Такие слова можно истолковать как одобрение проводимого Палмерстоном курса поддержки Пьемонта против Австрии; но нашлись либералы, которые заподозрили Лайонела в намеренном двуличии, призванном скрыть его проавстрийские настроения. Речь стала первым из многих намеков на то, что в мире международных отношений Ротшильды по-прежнему имели гораздо больше общего с тори, чем с либералами. Шафтсбери (противник эмансипации и потому едва ли беспристрастный) писал, что Лайонел накануне сражения при Мадженте был «почти безумен, потеря Ломбардии [Австрией] означала потерю его железных дорог и дивидендов по его займу! <…> Странно, страшно, унизительно, но… судьба этой страны – развлечение неверного еврея!»
Финансы «Объединения»
В период 1859–1871 гг. после ряда военных конфликтов в Европе и Америках Ротшильды столкнулись с новыми, судя по всему неразрешимыми, вопросами. Поскольку каждый из них, с одной стороны, был войной за объединение – объединение Италии, Соединенных Штатов, Германии, – историки склонны трактовать их итоги как в каком-то смысле предрешенные, пусть только в масштабах политической экономии. На самом деле в тот период велись войны между многими странами, и предвидеть их исход было совсем непросто. Национализм не играл решающей роли: в 1863 г. провалилось «объединение» Польши; на следующий год потерпело неудачу «объединение» Дании; еще через год – «объединение» рабовладельческих штатов, а в 1867 г. – «объединение» Мексики. Кроме того, политики намеревались создать не мононациональные государства, а федерации: Кавур изначально задумал федерацию Северной Италии; в Америке война также развернулась из-за федерализма; и в Германии Бисмарк в 1866 г. решил «больше придерживаться конфедерации государств… в то время как на практике придал ему [Северогерманскому союзу, а позже Германскому рейху] характер федерального государства с эластичными, неявными, но далекоидущими формулировками». Более того, все тогдашние конфликты могли бы разрешиться по-иному, если бы в их ход вмешались одна или обе мировые супердержавы, Великобритания и Россия. Однако вышло так, что обе они предпочли оставаться в стороне, при условии, что события в Европе не скажутся на событиях на Ближнем Востоке, которому они придавали больше значения; правда, их невмешательство ни в одном случае не было всецело определенным.
Таким образом, Ротшильды много раз стояли перед нелегким выбором. Когда Пьемонт, при поддержке Франции, начал войну с Австрией, на какую сторону следовало встать Ротшильдам, учитывая, что их финансовые интересы затрагивали все три этих государства? Когда в Америке штаты Союза воевали со штатами Конфедерации, кого следовало поддержать Ротшильдам? Они импортировали хлопок и табак из южных штатов, и эти статьи импорта составляли такую же важную часть их трансатлантических операций, как и инвестиции в северные штаты и железные дороги. Когда Пруссия и Австрия начали войну с Данией, возможно, это было не так проблематично, хотя связи между британской и датской королевскими семьями иногда приводили в замешательство лондонских Ротшильдов. Но когда Пруссия начала войну с Австрией и другими членами Германского союза, вопрос конфликта интересов стал не менее острым, чем позже, в 1870 г., когда началась Франко-прусская война.
По традиции из всего этого делают вывод, что войны 1860-х гг. должны были дорого обойтись Ротшильдам. Конечно, в дневниках дипломатов того периода много ссылок на встревоженных Ротшильдов, которые бледнеют, услышав ту или иную плохую новость: вполне типичны описания, приведенные выше, об их откликах на итальянскую войну 1859 г. Сам Джеймс во всеуслышание повторил, что его семья по традиции питает отвращение к войне. Так, в 1862 г. он сказал Бляйхрёдеру, «что принцип нашего дома – не давать деньги на войну; хотя предотвратить войну не в нашей власти, мы по крайней мере хотим сознавать, что не способствовали ей». Судя по тому, как лихорадило международные финансовые рынки, когда войны все же начинались, кажется вполне логичным предположить, что войны пагубно сказывались на балансе домов Ротшильдов. Кроме того, кажется, что объединение вначале Италии, а затем Германии означало смертный приговор для двух из пяти домов Ротшильдов. Неаполитанский дом прекратил свое существование в 1863 г., всего через три года после того, как «краснорубашечники» Гарибальди отвоевали Сицилию у Бурбонов, проложив дорогу к аннексии их древнего королевства Савойской династией. Компания «М. А. фон Ротшильд и сыновья» кое-как существовала еще тридцать лет после аннексии Франкфурта Пруссией; но его упадок (по крайней мере, в относительном выражении) начинается в 1866 г., когда Берлин насильственным путем утвердился в праве считаться новым финансовым центром Германии.
Однако у таких доводов есть один недостаток: им серьезно противоречат доказательства в виде экономической деятельности банков Ротшильдов в тот период. Как показано в таблице 3 а, 1860-е и 1870-е гг. стали двумя из трех самых прибыльных десятилетий для Лондонского дома за весь период до 1914 г. (еще одним таким десятилетием стали 1880-е гг.).
Если рассматривать все пять домов вместе, их средняя ежегодная прибыль выросла до беспрецедентного уровня в 1852–1874 гг. (см. табл. 3 б). Последние периоды 1874–1882 и 1898–1904 гг. были более прибыльными, но по сравнению с тем, что происходило до того, «годы объединения» можно считать поистине золотым веком.
Конечно, средние цифры способны ввести в заблуждение, так как они суммируют периоды войны и мира. Но даже если проанализировать ежегодные цифры более подробно, результаты оказываются неожиданными. Иллюстрация 3.1 показывает, что 1859–1861 гг. – годы войны за объединение Италии – на самом деле стали самыми прибыльными в истории Неаполитанского дома.
Таблица 3а
Прибыль банка «Н. М. Ротшильд и сыновья», 1830–1909 (средние показатели за десятилетия)

Источник: RAL, RfamFD/13F.
Таблица 3б
Среднегодовая прибыль домов Ротшильдов в целом, 1815–1905, тыс. ф. ст.

Источник: Приложение 2, таблица г.
Судя по всему, цифры для Лондонского дома больше поддерживают версию о том, что войны того периода пагубно сказывались на Ротшильдах. На иллюстрации 3.2 сравнивается годовая прибыль Нью-Корта с годовой прибылью двух главных конкурентов Ротшильдов в Сити, Бэрингов и Шрёдеров. В каждом случае прибыль исчисляется в процентном отношении к капиталу к концу предыдущего отчетного года. Такое сравнение наглядно показывает, что 1863–1867 гг., годы войны за объединение Германии, действительно были неудачными для Лондонского дома; его самыми прибыльными годами были годы мира: 1858, 1862 и 1873 гг. Похоже, что в середине 1860-х гг., охваченных войной, процветали Бэринги (и в меньшей степени Шрёдеры), хотя для Бэрингов высокие прибыли, возможно, имели больше отношения к возвращению мира в Америку, чем к войне в Европе. Тем не менее было бы нелепо предполагать, что не существовало связи между общей рентабельностью того периода в целом для Ротшильдов и возобновлением военных конфликтов. Как будет показано в дальнейшем, главным образом финансируя военные приготовления европейских государств и международные операции, которые вытекали из войн того периода, Ротшильды сумели резко повысить свои прибыли в годы мира. Войны середины XIX в. не повредили их положению ведущего многонационального банка в мире, а, наоборот, создали для Ротшильдов беспрецедентную сферу деятельности, совсем как за полвека до того война подтолкнула их к богатству и дурной славе.

3.1. Прибыль Неаполитанского дома, 1849–1862 (в дукатах)

3.2. Прибыль в процентном отношении к капиталу банков «Н. М. Ротшильд и сыновья», «Братья Бэринг» и банка Шрёдеров, 1850—1880
Войны 1850—1860-х гг. велись государствами, не имевшими огромных средств; это больше чем что-либо другое объясняет важность роли, которую в тот период играли банки, – и значительные прибыли, которые они могли извлечь. Базы налогообложения оставались ограниченными. Более того, в тот период они были особенно ограниченными, поскольку все больше государств следовало примеру Великобритании в области либерализации торговли. В 1853 г. Австрия урезала тарифы и подписала торговое соглашение с возглавляемым Пруссией Германским таможенным союзом, в 1860 г. Франция подписала договор о свободной торговле с Великобританией – и в краткосрочной перспективе следствием сокращения тарифов стало сокращение прибыли до тех пор, пока брешь не заполнилась благодаря росту товарооборота. Труднее всего совершенствовать тарифы было Австрийской империи с ее неравноправными территориями. Несмотря на героические усилия, предпринятые Бруком в 1850-е гг., в тот период бюджет ни разу не был сбалансирован. В Пруссии же, наоборот, существовала относительно действенная система роста доходов, когда казну пополняли рентабельные государственные предприятия; но политический конфликт между парламентом, где главенствующее положение занимали либералы, и все более консервативным монархом делал финансы почти такими же проблематичными. Вопрос о том, кто должен определять военный бюджет – ландтаг или король, – был одним из двух основных вопросов, которые был призван решить Бисмарк. Когда он обратился ко второму вопросу – кто должен управлять Германией, – ему пришлось значительно увеличить военный бюджет. Финансовые уловки, на которые он пошел, чтобы обойти прусский парламент, играли такую же важную роль для объединения Германии, как и битвы при Садове и Седане.
Еще больше, чем в предыдущее десятилетие, к услугам политиков, стремившихся добыть деньги другими средствами, кроме налогообложения, были преимущества стремительно растущей и меняющейся международной банковской системы. Если 1850-е гг. можно назвать десятилетием «Креди мобилье» и сходных с ним инвестиционных банков, то в 1860-е гг. наблюдалось разрастание более солидных учреждений, акционерных депозитных банков. В Великобритании это имело сравнительно ограниченное значение для Ротшильдов, потому что большинство депозитных банков почти исключительно концентрировались на таких внутренних финансовых операциях, которых лондонские Ротшильды всегда избегали. Тем не менее в результате либерализации английского корпоративного права в 1856 и 1862 гг. предпринимался ряд попыток учредить акционерные банки с иностранным участием, из которых Англо-австрийский банк, основанный в январе 1864 г. Джорджем Гренфеллом Глином, представлял, пожалуй, самую серьезную опасность для интересов Ротшильдов. Эти новички, выражаясь словами старшего сына Лайонела Натти, «совершали огромное количество рискованных операций, настолько, что дядя Маффи [Майер] готов был вести с ними очень мало дел, если вообще иметь с ними дело».
Во Франции Джеймсу пришлось довольствоваться четырьмя крупными новыми конкурентами, появившимися в тот период: «Индустриальный и коммерческий кредит» (Crédit industriel et commercial), основанный в 1859 г., «Общество депозитов и счетов» (Société de dépôts et comptes courants) (1863), «Сосьете женераль» (1864) и «Лионский кредит» (Crédit Lyonnais), который открыл парижский филиал в 1865 г. Более того, не всех их можно считать конкурентами в строгом смысле слова. Так, «Сосьете женераль» был основан группой, в которую входили Талабо, Бартолони и Делахант, уже связанные с Ротшильдами в различных железнодорожных компаниях, и новый банк часто действовал совместно с Ротшильдами. Отношения с «Лионским кредитом» также носили теплый характер. Более того, новые банки представляли более серьезную угрозу для «Креди мобилье», который и сам все больше действовал как депозитный банк после ограниченного успеха своих честолюбивых инвестиционных проектов 1850-х гг.[50] Тем не менее само их существование способствовало расширению оснований французских финансов, что могло лишь относительно уменьшить влияние Ротшильда в Париже. Джеймс предпочел не участвовать напрямую в «Сосьете женераль», хотя его недвусмысленно приглашали «встать во главе» этого учреждения; очевидно, после «Реюньон финансьер» он передумал учреждать собственный акционерный банк в Париже. И в Австрии возникали новые акционерные предприятия, составившие конкуренцию «Кредитанштальту» Ротшильдов. В 1863 г., когда Джеймсу и Ансельму предложили учредить в Вене австрийский вариант «Креди фонсье», они отказались. Их отказ открыл путь бельгийскому финансисту Ланграну-Дюмонсо, желавшему создать международную сеть ипотечных банков и других учреждений. Будучи католиком, он открыто противопоставлял себя иудеям Ротшильдам.
Все это предоставляло воюющим сторонам более широкий выбор, чем в прошлом: если Ротшильды отказывались предоставить им требуемые средства, они обращались к другим. Поэтому Ротшильды больше не могли рассчитывать на возможность применить вето к воинственным политикам (если такая возможность вообще когда-либо существовала). И хотя отдельные страны проигрывали войны из-за недостатка средств, но это не мешало их правительствам развязывать войны. Если и есть экономическое объяснение поражениям Австрии, Конфедерации и Франции, одно из них заключается в том, что они были меньше способны эксплуатировать новые источники финансирования, чем Пьемонт, Северные штаты и Пруссия; точнее, финансовые рынки испытывали меньше желания предоставлять им займы. В ту эпоху растущая интеграция международной денежной системы наделила банкиров в целом беспрецедентной властью, хотя ни один отдельно взятый банк и не мог похвастать таким же влиянием, каким пользовались Ротшильды до 1848 г. Сочетание свободной торговли и развития биметаллизма как международной денежной системы сокращало свободу маневра для политиков; небольшие просчеты – как дипломатические, так и финансовые – могли привести к быстрому наказанию со стороны инвесторов. Очевиднее всего такое наказание выражалось, конечно, в падении цен на государственные облигации или падении спроса на ту или иную валюту. Конвертируемость валют подвергалась своеобразному экзамену. Таблица 3 в иллюстрирует серьезность кризиса 1858–1859 гг. для австрийских облигаций по сравнению с облигациями Великобритании и Франции. То, что облигации одной из великих держав способны были в результате военных поражений потерять более половины своей цены, говорит само за себя.
Таблица 3в
Финансовые последствия объединения Италии

Примечание. Цифры для Великобритании и Франции приводятся по еженедельным ценам закрытия на Лондонской бирже; цифры для Австрии и Пруссии приводятся по заключительным ценам конца года на Франкфуртской бирже.
Источники: Spectator; Heyn, «Private banking and industrialisation». P. 358–372.