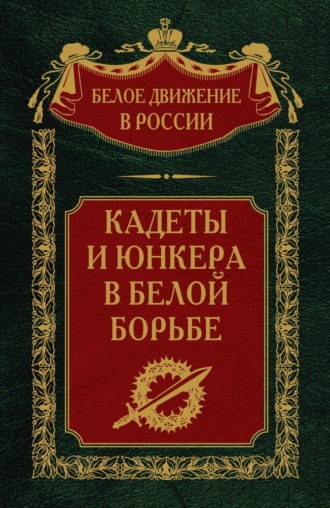
Кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужбине
Вечером мы в общем благополучно сели в поезд. Я был очень горд и чувствовал себя настоящим мужчиной, опорой для моей старшей сестры. Только на вокзале я пережил несколько неприятных минут, пока не отошел поезд. Я боялся, что придет помощник коменданта и откроется моя ненужная ложь. «Зачем я наврал, что Тане семь лет?» – ругал я себя. Я уверен, что, если бы я сказал правду, наш бывший кадет все равно дал бы мне пропуск.
Так я навсегда покидал Москву.
Как я уже сказал, ехали мы в военном эшелоне, везущем куда-то мобилизованных красноармейцев, настроенных совсем не воинственно. Они даже, как это ни странно, не пели военных песен, что присуще русскому солдату. Нас взял под свое покровительство один из красноармейцев, по виду из бывших вольноопределяющихся, игравший роль начальника в этом вагоне. Да и другие нас не обижали, жалели и даже подкармливали. Через несколько дней мы добрались до Ливен. Того благополучия, которое было год тому назад, там уже не было. Народ не голодал, но во всем уже чувствовался острый недостаток. Мы с сестрой заболели возвратным тифом. Потом долго не могли поправиться.
В конце лета пошли слухи о приближающихся добровольцах. В начале сентября по вечерам были уже видны беззвучные орудийные вспышки. Семья коммуниста, живущая рядом, начала спешно паковать вещи;
в ночь перед приходом белых она исчезла. Ливны большевики оставили без боя.
Помню теплый сентябрьский день, под вечер, солнце только собиралось садиться. На мосту через Сосну-реку, по дороге, идущей в город, показалась стройная колонна долгожданных добровольцев. То были марковцы, они пели «Смело мы в бой пойдем». Песню эту мы слышали в первый раз. Население забрасывало их цветами, многие плакали. Встречать добровольцев я опять надел припрятанные мною погоны нашего корпуса. В моей жизни начался новый период: наша семья связала свою судьбу с Добровольческой армией.
Б. Щепинский[22]
Рота Его Высочества Морского Е.И.В. Наследника Цесаревича кадетского корпуса[23]
10 января 1917 года все кадеты вернулись в корпус, где повседневная жизнь продолжалась, как раньше. Конечно, все интерсовались военными действиями на фронте, но о политическом положении в стране никто ничего не знал. Поэтому вспыхнувшая революция, отречение Государя от престола за себя и за своего сына были для кадет полной неожиданностью. Вначале предполагали, что Государя заместит на престоле его брат, Великий князь Михаил Александрович, но после его отказа стало ясно, что монархия перестала существовать.
В начале марта, по получении манифеста об отречении Государя, приказом директора всех воспитанников выстроили в одной из столовых. Сильно расстроенный и взволнованный адмирал Ворожейкин[24] начал читать манифест, но по мере чтения волнение его возрастало, слезы покатились по лицу, адмирал расплакался и передал заканчивать чтение капитану 2-го ранга Бергу[25].
Первым следствием этого исторического события было снятие с погон вензелей Наследника, а черная ленточка была сшита в своей середине, скрывая таким образом шефскую часть названия корпуса. Новое, так называемое «Временное правительство» симпатий никому не внушало, но все же офицеры и команда были приведены к присяге.
В марте рота Морского кадетского корпуса была вызвана в Севастополь, где вместе с командами всего флота и частями гарнизона участвовала в «красном» параде на Нахимовской площади. Вскоре пошли разговоры о том, что и кадеты будут приносить присягу. Действительно, в апреле рота была собрана в одной из столовых, где был поставлен аналой с Евангелием и отец Спасский, с крестом в руках, привел всех к присяге.
Особенных перемен во внутренней жизни корпуса не произошло, классные и строевые занятия продолжались по-прежнему. Со стороны команды враждебных действий не было, не было и красных флагов, но национальный флаг был перевернут «вверх ногами», и нижняя, красная, полоса стала верхней. Весной какой-то «уполномоченный» прибыл в Севастополь для смотра флота, и при проходе его моторного катера перед участком корпуса все рабочие бросились к берегу, крича «Ура!». По духу времени воспитанники были сняты с уроков и посланы туда же, на пристань, но «Ура!», конечно, не кричали.
Ввиду событий, на пасхальные каникулы уехали только те, которые жили поблизости. В мае воспитанники, получив, кроме зимнего, еще и летнее обмундирование, были распущены на летние каникулы. Только летом они узнали, что, по распоряжению Временного правительства, Морской кадетский корпус в Севастополе закрывается, а воспитанники его переводятся в Морское училище в Петроград.
* * *
Итак, волею судьбы воспитанники Морского кадетского корпуса в Севастополе прибыли в Петроград и влились «душой и телом» в Морское училище на три года раньше, чем это было предвидено по плану преобразования военно-морских учебных заведений, и не вновь испеченными гардемаринами, а еще кадетами 6-й роты.
По этому плану кадеты приема 1916 года в Морской кадетский корпус в Севастополе должны были быть произведены в гардемарины весной 1920 года, отправлены на учебном судне в плавание вокруг Европы и, по прибытии в Петроград, приняты в младший специальный класс Морского училища.
Но план этот так и остался планом.
Осенью кадеты-севастопольцы прибыли в Петроград не на учебном судне под Андреевским флагом после замечательного заграничного плавания, а более прозаическим путем – по железной дороге, в переполненных поездах.
Несмотря на общий упадок, в котором находилась Россия в то время, число прибывших в училище кадет было близко к сотне.
Кадеты, окончившие весной 1917 года старший общеобразовательный класс, и молодые люди «со стороны», принятые по конкурсу аттестатов как в Морское училище, так и в Отдельные гардемаринские классы, были сведены в новую, 3-ю роту числом в 258 человек, которая под командой капитана 1-го ранга М.А. Китицына[26] была отправлена 3 октября 1917 года во Владивосток. После закрытия Морского училища в Петрограде 24 февраля 1918 года Морское училище во Владивостоке продолжало существовать еще до осени 1920 года, и последние гардемарины этого училища окончили полный курс Морского корпуса 2 марта 1922 года в Бизерте.
В Петрограде остались четыре роты: три кадетские – 6-я (из Севастополя), 5-я и 4-я (младший, средний и старший общеобразовательные классы) и одна гардемаринская, 2-я (старший специальный класс) большого состава (214 человек). Всего, возможно, около 450 воспитанников.
Мало кто из кадет, прибывших из Севастополя, видел Северную столицу, а о жизни в стенах старого Морского корпуса слышали только те, чьи старшие братья или родственники еще воспитывались в училище или же служили уже во флоте.
Многим, и главным образом южанам, нужно было привыкнуть к особенному петроградскому климату, с его пасмурной осенью, длинной зимой с лютыми январскими морозами и с «белесыми» бесконечными ночами.
6-я рота была размещена в помещениях 2-го этажа левого крыла здания, на углу между Николаевской набережной и 11-й линией, 5-я – в таких же помещениях 1-го этажа, 4-я – в помещениях между Компасным залом и Картинной галереей, около Столового зала, а старшая гардемаринская – в помещениях 1-го этажа, вдоль 12-й линии, с выходом в Картинную галерею.
Кадеты-севастопольцы быстро ознакомились с новой обстановкой: большие ротные залы, разделенные широкими сводами на две части, одна – с конторками для приготовления уроков, другая – для строя, переклички, пения молитв, чтения приказов и уроков танцев. Обширные спальни, «Звериный» коридор, украшенный стенными барельефами зверей, снятыми со старинных кораблей, Классный коридор с Компасным залом, Картинная галерея с батальными картинами и портретами адмиралов XVIII века, Морской музей и знаменитый Столовый зал.
Познакомились кадеты-севастопольцы и с вековыми традициями «Гнезда Петрова», и с легендами о замурованном кадете, о скрытом подземном ходе под Невой, о простреленном портрете адмирала Ушакова в Картинной галерее, о попытке подпилить цепи, на которых висел потолок Столового зала, и т. д.
О выдающейся личности генерала Бригера, последнего начальника Морского училища, посвятившего ему 30 лет жизни, было уже достаточно сказано в зарубежной морской печати. Но все же нужно напомнить, что если училище не было закрыто сейчас же после октябрьского переворота и воспитанникам его удалось закончить учебный год и получить аттестаты, то этим они обязаны исключительно энергии и умению своего начальника.
За исключением двух или трех сравнительно молодых преподавателей, все остальные были уже в почтенном возрасте (по-кадетски – «песочниками»). Преподавали они в училище уже в течение десятков лет. Новых воспитанников они знали плохо. Прочитав свой урок, который они знали почти что наизусть, вызывали кого-нибудь по списку к доске, но кто именно стоял перед ними – они не знали! Кадеты этим пользовались, и в каждом из пяти отделений были выбраны «специалисты» по определенному предмету, которые в случае надобности могли бы отвечать за других! Но были преподаватели, провести которых было невозможно: таким был полковник Таклинский, прекрасный математик и очень строгий преподаватель (по-кадетски – «безжалостный»).
Кто в Морском корпусе не знал легендарного преподавателя французского языка господина Гризара, который, несмотря на свое тридцатилетнее пребывание в Петербурге, плохо владел русским языком? Юркий и болтливый старичок смешил кадет, рассказывая им одни и те же французские анекдоты, и свирепел, когда по традиции кто-нибудь из кадет ему говорил: «Месье, Балтийский завод сгорел!» Бывало, что он выгонял виновного из класса и после урока жаловался инспектору классов и ротному командиру.
Преподаватель английского языка мистер Самсон знал русский язык еще меньше, чем его коллега, пользуясь чем дежурный по классу рапортовал ему по-русски невообразимую ерунду.
Офицерский состав был хороший: строгий, но справедливый ротный командир, капитан 2-го ранга Халкевич, много молодых офицеров. Дисциплина была строгая и наказания обильны, главным образом оставление без отпуска. Как-то за «звериный концерт» в спальне ротный командир оставил мнимых «зачинщиков» без отпуска… до конца года. А в действительности – в концерте приняла участие вся рота!
Были случаи, когда виновного сажали в карцер. Другим наказанием, менее строгим, но более частым, была высылка виновного из класса в распоряжение дежурного офицера, который ставил его на один из еще не занятых румбов компасной катушки до конца урока.
Один из офицеров, старший лейтенант Неелов, носил довольно странное прозвище Дырка. Говорили, что Неелов, еще будучи гардемарином, прострелил, случайно или нет, портрет адмирала Ушакова. Начальство обнаружило дырку в портрете и приказало ее заделать! Было ли это так?!
Строевых квартирмейстеров и «дядек» в училище уже не было, но в ротах остались каптенармусы, которые выдавали обмундирование и обувь, а после бани – форменки и белье. Одежду и обувь воспитанники чистили сами. В училищной швальне можно было за некоторую «мзду» вшить в форменные брюки клин, придававший им форму «клеша».
О повседневной жизни много говорить не приходится. Как и в Севастополе, побудка под горн или барабан, но барабанщик начинал свой ненавистный для кадет бой в спальне 5-й роты, находившейся в первом этаже, перед тем как подняться во второй этаж. Конечно, эта «предварительная» побудка не была по вкусу мирно спавшим кадетам 6-й роты!
В отличие от Севастополя, в Петрограде в зимние месяцы электрическое освещение нужно было оставлять долго утром и зажигать рано вечером.
Остальная часть дня проходила по обычному порядку: строй, молитвы, хождение фронтом четыре раза в день в Столовый зал, классные уроки в те же часы, как и в Севастополе, приготовление уроков за конторками, перекличка, вечерняя молитва и… койки. Новым было: уроки плавания в большом училищном бассейне и уроки танцев под музыку пианино.
Строевых учений и утренних прогулок по улицам Васильевского острова не было.
Кормили воспитанников относительно неплохо (по сравнению с полуголодовкой, царившей в то время в столице), но, конечно, не так хорошо, как в старое время. Белая мука временами исчезала, уступая место ржаной, и снова появлялась. Конечно, в этом году воспитанники уже не посылали дневальных за сладкими филипповскими булочками!
Каким образом хозяйственная часть умудрялась раздобывать все необходимые продукты, чтобы накормить весьма неплохо около 500 человек в день корпусного праздника 6 ноября?!
Как перед рождественскими каникулами, так и после окончательного закрытия училища, все уезжающие воспитанники получили пищевое довольствие на несколько дней: хлеб, масло, сахар, чай и иногда даже и холодные котлеты.
Чудная корпусная церковь не пустовала, но на службы ходили желающие, одиночным порядком.
Следуя духу времени, был образован из служащих училищный комитет, выдававший всякого рода удостоверения.
Было немало и других изменений в жизни училища, но в среде офицеров и воспитанников осталось то, чего никакая революция, никакая пропаганда изменить не могли: дух более чем 200-летней колыбели Российского Императорского флота – Морского корпуса.
* * *
Конец сентября 1917 года – прибытие воспитанников в училище после плавания на боевых судах или летних каникул.
3 октября – молебен перед началом занятий в Столовом зале. Речь начальника училища генерала Бригера.
25 октября – начало большевистского переворота. Несколько холостых выстрелов с крейсера «Аврора», стоявшего на Неве, против училища.
26 октября – речь начальника училища в связи с создавшимся новым политическим положением.
6 ноября – праздник Морского корпуса. Молебен в Столовом зале. Традиционный жареный гусь. Парада и бала не было.
12 ноября – выборы в Учредительное собрание в Столовом зале.
2 декабря – печальный день! Воспитанникам было приказано снять дорогие им белые погоны. Вскоре они получили новые отличия: для кадет – золотые нарукавные тупые углы, один – для 6-й роты, два – для 5-й, три – для 4-й; для гардемарин то же самое, но с якорем внутри угла.
Изменилась и офицерская форма и официальное титулование офицеров для всех чинов – «военный моряк»!
9 декабря – вечер, устроенный старыми гардемаринами. Приглашенные кадеты (пять из каждой роты) присутствовали на ночном параде в Столовом зале, принимаемом Нептуном, восседавшим на троне у пьедестала статуи Императора Петра Великого и зычно кричавшим: «Отвечать, как морскому богу!» Форма: на голом теле – портупея, кому положено – палаш, на бедрах – черный галстук, на голове – фуражка. У Нептуна – корона и трезубец.
15 декабря – отъезд на рождественские каникулы. Для подавляющего большинства воспитанников кадетских рот этот день был последним в стенах Морского училища.
10 января 1918 года – к этой дате несколько десятков кадет уже вернулись в училище. Увы, все ротные помещения были заняты какими-то матросскими отрядами Балтийского флота, и кадеты были размещены в палатах училищного лазарета. На чай, завтрак и обед кадеты ходили не строем, а одиночным порядком. Регулярных классных занятий уже больше не было.
29 января – Совет народных комиссаров объявил, что российский флот царского времени распущен и будет заменен «социалистическим рабоче-крестьянским красным флотом» на вольнонаемных началах. Конечно, этот декрет ничего хорошего для воспитанников училища, будущих морских офицеров, не предвещал!
Впрочем, уже начиная с середины января различные советские комитеты, заседавшие в училище, в Столовом зале, выносили враждебные по отношению к «старорежимному» Морскому училищу резолюции, именуя его то «осиным гнездом», то… «кровавым насосом(?!)».
В конце января училище удостоилось посещения «мичмана» Раскольникова-Ильина (1917 – О.Г.К.[27]), который, взобравшись на стул около статуи Петра Великого, произнес какую-то пламенную революционную речь.
В январе – феврале в Столовом зале был открыт сезон «народных» балов с соответствующей публикой. Около Столового зала были устроены «кубрики счастья», а «барышни» нового стиля, взобравшись на палубу брига «Наварин», лущили семечки… Чудная картина для оставшихся в училище воспитанников!
Но вот настал роковой день – 24 февраля. По приказу военно-морского комиссара товарища Троцкого, старое Морское училище было закрыто и его воспитанники были распущены, получив соответствующие пройденному курсу свидетельства, а старшие гардемарины – звание «военного моряка».
Так закончило свое 217-летнее существование Морское училище, ведущее свое начало от Школы математических и навигацких наук, основанной Императором Петром Великим.
Н. Голеевский[28]
Симбирский кадетский корпус до и в дни революции[29]
Жили все в корпусе своей спокойной жизнью, и казалось, что ничто не могло предвещать приближения крупных событий в стране. В средних числах февраля до кадет доходили сведения, что в столице что-то происходит, какие-то беспорядки, но им не хотелось верить, что могло случиться что-нибудь страшное.
Наконец наступил роковой день 4 марта 1917 года. С утра в корпусе все шло как обычно: утренний чай, по классам, завтрак, опять по классам, обед и вечерние занятия, на которых кадеты, сидя по своим классным комнатам, приготовляли заданные им на следующий день уроки. Вот горнист протрубил: «Отбой!» Кадеты высыпали из классов в ротный зал, готовясь строиться, чтобы идти в столовую на вечерний чай. Но что-то случилось. Команда не подавалась. По залу, с озабоченным видом, тихонько переговариваясь между собою, ходили отделенные офицеры – воспитатели и командир роты полковник Соловьев. Лица у них были немного растерянные и серьезные. Что все это могло значить? Кадеты ничего не понимали и толклись на месте в ожидании.
Вдруг – удар хуже разорвавшейся бомбы! Командир роты печально, негромко объявил:
– Государь Император отрекся от престола! Революция!
Кадеты потрясены – как это могло случиться и зачем? На улице, перед главным фасадом корпуса, уже стояла колоссальная толпа ликовавшего народа с красными флагами. Она пришла требовать, чтобы ей дали немедленно, по случаю торжества, кадетский духовой оркестр. Корпусное начальство старалось убедить обезумевшую от радости толпу, что сейчас уже поздно и оно не может выпустить кадет на улицу, потому что они ложатся спать, и обещало, что завтра утром весь кадетский корпус выйдет и пройдет по улицам города с оркестром музыки.
Толпа продолжала реветь и требовать. Но все же постепенно начала успокаиваться и уже была готова двинуться дальше показывать свой восторг – освобождения от царских уз. В это время кадеты 2-го отделения 5-го класса, окна классной комнаты которого выходили на улицу, открыли форточки и запели: «Боже, Царя Храни!» Толпа опять заревела, и раздались вопли: «Волчата!»
Корпусные офицеры снова бросились ее успокаивать, уверяя, что произошло недоразумение: кадеты думали, что это манифестация по случаю победы русского оружия на фронте военных действий. Удалось ли воспитателям уговорить толпу или ей просто надоело уже кричать, но она понемногу затихла и, распевая революционные песни, оставив корпус в покое, куда-то удалилась. Кадеты построились и пошли в столовую пить свой вечерний чай. Настроение у всех было мрачное, и все думали, что же теперь будет дальше?
На следующий день утром в корпусе уроков не было: шло приготовление к предстоящему маршу по улицам города Симбирска. Пропитанным с детских лет обожанием своего Царя кадетам предстояло показать свой неописуемый восторг перед свершившимся, для них печальным, переворотом. Для корпусного начальства была тоже нелегкая задача. От них требовали, чтобы корпус присоединился к всеобщему ликованию, когда в сердцах у всех лежала тяжелая грусть о происшедшем.
Оно терялось, не зная, как поступить. Опасно было окончательно раздражать революционно настроенных горожан и, особенно, почувствовавших веяние свободы чинов местного гарнизона, и так уже недовольных отношением корпуса к революции. Кадеты упорно твердили: «Никаких красных тряпок мы не понесем!» Наконец все же был найден выход. Сделали большой белый плакат с написанным на нем черными буквами лозунгом: «Война до победного конца!» – и под его прикрытием было решено пройтись по улицам революционного города.
В 10 часов утра все было готово, и Симбирский кадетский корпус в полном своем составе, с духовым оркестром впереди, выстроился сдвоенными рядами, поротно, посередине улицы перед парадным входом корпусного здания.
На тротуарах быстро собралось довольно много весело настроенной, разукрашенной красными бантами и радостно улыбавшейся публики – все больше учащаяся молодежь. Солдат гарнизона почти не было заметно. Они, вероятно, еще не успели отоспаться после ночного разгула. Из Кошкадамской женской гимназии, находившейся немного наискосок от здания корпуса, на улицу высыпала орава ликовавших гимназисток. На их пальто были приколоты красные бантики или розетки, и в руках у многих виднелись красные флажки. Их начальница была близкой приятельницей Ленина и сумела подготовить своих питомиц достойным образом к развернувшимся событиям.
Дружно размахивая этими флажками, гимназистки радостно приветствовали стоявших смирно в строю кадет. А одна из них, по-видимому переполненная чувством переживаемого момента, подошла к крайнему в первой шеренге кадету 2-й роты и сунула свой флажок ему в руку. Кадет от неожиданности так растерялся, что его взял. Стоявший на самом левом фланге 1-й роты кадет 7-го класса, увидев этот позор для корпуса, быстро подбежал к нему, вырвал флажок и, сломав его древко о свое колено, гневно швырнул священный символ революции в толпу обескураженных гимназисток. Как гром раздался взрыв их негодования.
Находившийся рядом корпусной офицер – воспитатель сразу же подошел вплотную к разгневанным дерзким поступком кадета девицам и спокойным тоном принялся им объяснять, что согласно русскому военному законоположению в строю строго воспрещается носить какие бы то ни было посторонние предметы. Гимназистки, как бы это ни казалось странным, очевидно, ничего не поняли, но все же постепенно успокоились. На их молоденьких личиках снова появились очаровательные улыбки, и взоры устремились в сторону кадет, продолжавших стоять смирно и смотреть в затылок впереди стоявших своих товарищей, не обращая на девушек никакого внимания.
Раздалась громкая команда командира 1-й роты: «На плечо! Шагом марш!» Оркестр заиграл марш «Тоска по родине», и три роты кадет двинулись по улице показывать свою приверженность новому режиму. На главной улице города, Гончаровской, еще не успело собраться много публики, и далеко не у всех красовались красные значки. Когда корпус стройными рядами маршировал по ней, командир роты почему-то крикнул старшему музыканту кадету Житетскому: «Нельзя ли что-нибудь повеселей?» Оркестр заиграл марш «Прощание славянки» – еще печальнее первого. Под звуки этих двух маршей уже без всяких приключений, пробыв минут сорок на улицах города, корпус вернулся обратно домой.
Происшедшая перемена власти в стране, так сильно потрясшая все созданные веками устои Государства Российского, мало внесла нового во внутренний распорядок кадетского корпуса. Жизнь кадет продолжала течь по проложенному десятками лет старому руслу. Почти ничто не изменилось, только в молитве: «Спаси, Господи, люди Твоя», которую кадеты ежедневно пели утром и вечером, слова «Благочестивейшему нашему Императору Николаю Александровичу» были заменены словами «христолюбивому воинству нашему». Но с первых же дней революции это воинство показало совсем обратное. Оно с каждым днем становилось все более и более разнузданной, не желавшей никому подчиняться дикой толпой. Кадеты старших классов в глубине души сильно переживали крах империи, а малыши хотя и мало что понимали, но тоже недоумевали, что же будет теперь без Царя?
В главном и ротных залах корпуса по-прежнему продолжали висеть портреты Императоров и Царственных особ еще только вчера великой страны. В корпусной церкви стояли знамена – одно Симбирского и два Полоцкого кадетских корпусов. Весной, хотя и был получен приказ, изданный Временным правительством, отправить все императорские знамена в Петроград, наше корпусное начальство не исполнило этого распоряжения революционного правительства, знамена так и не были никуда отосланы и все время продолжали оставаться в корпусной церкви.
В некоторых других учебных заведениях города портреты Царственных особ были сразу убраны или завешены материей, вероятно, чтобы Их Величествам не приходилось больше смотреть на вышедших из ума людей.
Уроки в корпусе шли нормально, и даже кадеты, чтобы не причинять еще лишних неприятностей своим наставникам, как-то более подтянулись и стали лучше себя вести. Никто из воспитателей и приходивших на уроки преподавателей в обсуждение совершившихся событий не вступал, да кадеты почти никого сами и не расспрашивали. Только не пользовавшийся большими симпатиями преподаватель русской истории, придя после свершившейся революции на свой первый урок во 2-е отделение 6-го класса, по-видимому желая произвести какое-то для него выгодное впечатление на кадет, громогласно и с чувством полного достоинства объявил, что он – социалист, плехановец…
Сидевший на самой задней парте кадет К. Россин как ужаленный моментально вскочил с своего места и громко его спросил: «А до революции вы тоже были социалистом?» – «Ну да, да, конечно», – с пафосом ответил он и собирался еще что-то добавить, но был вторично перебит Россиным: «А почему же вас тогда не повесили?» Класс разразился гомерическим хохотом. Ошеломленный произведенным неожиданным для него впечатлением на кадет, педагог замялся и сконфузился, но, немного придя в себя, хотя и весьма неуверенно, все же приступил к ведению урока. Больше на политические темы он в корпусе никогда не пытался выступать, а кадетам так и не удалось познакомиться с учением Плеханова.
Кадеты 2-го отделения 6-го класса, как и все остальные, остро переживали происходившие события и иногда спрашивали приходившего к ним на урок преподавателя русского языка Мирандова: «Что же получится дальше?» Он весьма неохотно и лаконично отвечал, что скоро будет избрано Учредительное собрание, которое и установит новую законную власть в стране, и тогда все будет в порядке. Кадетам хотелось верить его просвещенному мнению, но что-то подсказывало им совсем другое, и они с трепетом в сердцах вглядывались в надвигавшееся будущее своей Родины.
В Петрограде быстро организовалось Временное правительство разгулявшейся по просторам страны российской свободы. На третий или четвертый день всех кадет корпуса повели присягать ему на верность в корпусную церковь. Шли все неохотно. Но приказ был приказом, и ослушаться никто не посмел. В церкви с амвона корпусной священник читал слова присяги. В ответ несся неясный лепет нескольких сот голосов. Кто что отвечал, разобрать не представлялось возможным. Стоял какой-то неопределенный гул, и чувствовалось, что все это была просто одна проформа.
Знаменитый «приказ № 1» в жизнь корпуса не внес каких-нибудь осложнений, потому что его появление было враждебно встречено кадетами, и они подчеркнуто продолжали вести себя согласно уставным правилам прежних воинских законоположений. Кадеты не переставали отдавать установленную честь всем офицерам, становясь по фронту, как полагалось по положению.
Низшие служащие корпуса – дядьки, повара, писаря и другие – своим поведением особой радости к добытой свободе ничем не показывали. Они все время держались так, как будто все происходившие события их мало касались. Только один кандидат на классную должность, фельдшер Григорьев, еще совсем молодой человек, просидевший как у Христа за пазухой всю войну в корпусном лазарете, пропитался революционным духом. Спустя полмесяца после революции он неожиданно появился в главном зале корпуса и довольно независимым тоном предложил сидевшей на стульях группе кадет немедленно убрать стоявшие и висевшие в зале портреты Царственных особ. При этом позволил себе сказать несколько унизительных слов в адрес отрекшегося Царя.
Оскорбленные его замечанием кадеты моментально повскакали со своих мест и, дав ему основательную встрепку, выгнали вон из зала. После этого до конца учебного года он в стенах корпуса не проявлял больше своего революционного рвения. И портреты русских Царей, никем больше не тревожимые, продолжали оставаться в главном и ротных залах корпуса. Но в начале 1918 года, когда власть в городе окончательно перешла в руки большевиков, за свои заслуги перед революцией Григорьев был назначен комиссаром корпуса.
Прошло еще немного времени, и наконец и в городе Симбирске образовался комитет учеников всех среднеучебных заведений – защищать интересы почувствовавшей вольность юной молодежи, которая хотела поменьше учиться, а побольше веселиться.
Первая рота кадет пришла с завтрака, и командир роты полковник Соловьев объявил перед строем, что из общеученического комитета пришло требование: произвести среди кадет старших двух классов выборы делегатов – по три человека от каждого отделения. Выбранные кадеты должны будут ходить каждый четверг после вечерних занятий в город, на заседание этого комитета, которое будет производиться в здании высшеначального училища. И, добавив: «Выбирайте!» – распустил роту.
Кадеты сразу его окружили и заявили, что выбирать не будут: «Назначайте сами, кого хотите». Командир роты пожал плечами, сказав, что не может, и ушел. Кадеты разошлись по своим классным комнатам. Во 2-е отделение 6-го класса вошел вместе с ними и их отделенный офицер-воспитатель и, полушутя, сказал: «Ну что же, выбирайте!» Поднялся шум, и раздались возгласы: «Не будем, назначайте сами, господин капитан!»
Воспитатель, не зная, как поступить, стоял и улыбался, а кадеты продолжали твердить: «Назначайте!» Вдруг кто-то из кадет отделения ему подсказал: «Назначьте князя Макаева, Голеевского и Дубовицкого, они любят ходить в город». Воспитатель, ничего не ответив, повернулся и вышел из класса. На этом выборы и закончились.
Пришел очередной четверг, и нам троим пришлось собираться и идти. Из 7-го класса, кажется, пошли по желанию, но больше кадеты вице-унтер-офицеры. Все переоделись в отпускное обмундирование, и 12 делегатов под предводительством фельдфебеля роты двинулись в путь.
Высшеначальное училище находилось на главной, Гончаровской улице. Пришли кадеты туда немножко с опозданием. Заседание происходило в большом зале со сценою, на которой стоял длинный стол, с сидевшим за ним президиумом комитета. Перед сценой было довольно много рядов очень удобных кресел, занятых делегатами от всех среднеучебных заведений города.


