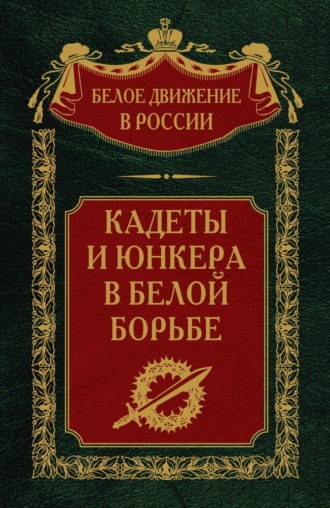
Кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужбине
Список моего отделения, конечно, сильно пополнился. Как выяснилось однажды из общей переклички, в старших двух классах оказались представители всех 30 российских кадетских корпусов.
Пажеский был представлен графом Колей Ребиндером[207]; Первый кадетский – Орловым, Тарасевичем[208], Косяковым; 2-й – Кострюковым[209]; 3-й Московский – Алтуховым[210]; Орловский – Сомовым и Бересневичем; Одесский – Романцовым, Яковлевым; Тифлисский – Либисом[211], Петровым; Воронежский – Донсковым и т. д. Это была большая, веселая и однородная по духу семья. Никого ничему не надо было учить: все были своими, так как в нас во всех было заложено одно и то же воинское воспитание.
Новый директор, генерал-лейтенант Чеботарев[212], бывший офицер 6-й л. – гв. Донской казачьей Его Величества батареи, окончивший Михайловскую артиллерийскую академию, очень умело взял корпус в свои мягкие, но уверенные руки.
Помимо проявляемого им большого интереса к нашему учению, к строевой и гимнастической подготовке, он всячески старался оживить повседневную жизнь кадет, часто устраивая концерты и балы. Сам талантливый поэт, генерал Чеботарев принимал близкое участие в издании корпусного журнала «Донец» и читал на вечерах свои стихи. Мы сразу оценили его и даже не старались придумать ему кличку.
6 декабря, в день корпусного праздника, в Сборном зале после церкви был парад. Перед атаманом проходили церемониальным маршем бывшие и настоящие кадеты. В шеренге первого выпуска, среди других офицеров, шел Африкан Петрович Богаевский[213]; в одной из следующих старался попасть в ногу путавшийся в рясе и разучившийся уже ходить по-военному батюшка. Много дальше, звеня шпорами, отчетливо заходил плечом строй юнкеров Новочеркасского училища, и, наконец, мы, все остальные.
В сотне неожиданно появился атаман Петр Николаевич Краснов[214] и объявил о том, что производит полковника Леонтьева[215] в генерал-майоры. Мы грянули «Ура!» и бросились к нашему командиру. Но смущенный и растроганный Леонтьев угрожающе затряс бородой и руками: «Не смей! Тут есть и постарше!» Не тут-то было: сразу сзади сильно нажали несколько десятков крепких рук, подхватили его, и «деревня» стал подлетать под самый потолок… Леонтьев продолжал с возмущением что-то кричать и жестикулировать в воздухе. Петр Николаевич Краснов смотрел на сцену с благодушной улыбкой.
Однажды вечером в класс на занятия пришел Суровецкий и – о удивление! – в новых штаб-офицерских погонах. Это было приятной для нас неожиданностью, но мы были сильно смущены тем, что не успели поздравить его с производством. Во время короткой перемены класс быстро сговорился, и, когда на втором часу вечерних занятий Борис Васильевич сел на свое место, минут пять спустя мы без команды отчетливо вскочили и замерли «смирно». Суровецкий в недоумении посмотрел даже на дверь, предполагая, что пришел кто-нибудь из высшего начальства. Но старший отделения Митяй Косоротов в коротком слове объяснил, что кадеты просят принять их общее поздравление. Суровецкий был тронут и расцеловал Митяя.
В праздничные дни выпускному классу разрешалось после вечернего чая переходить в Сборный зал. Там шли нескончаемые разговоры и воспоминания о жизни разных корпусов, о недавних боях и походах. Кто-нибудь садился за рояль, смыкался круг, и пелись хоровые песни, кончавшиеся общей «звериадой». Порой играл балалаечный оркестр или просто гудели гребешки, и мы лихо танцевали друг с другом. Устраивались и настоящие концерты. На них читались стихи. Орловец Бересневич рассказывал солдатские истории, одессит Вилли Романцов смешил до боли в животе еврейскими анекдотами и т. д. Ставились иногда целые пьесы, подчас весьма веселого характера. Одна из таких «драм» читалась на 14 разных языках, благодаря наличию представителей корпусов всей России, знавших самые разнообразные провинциальные наречия и европейские языки. Это было очень смешно, и мы веселились от души.
В один из таких вечеров выпуск устроил свой закрытый парад. К нему мы подготовлялись довольно долго, устраивая себе кивера, доломаны, расшитые шнурами от оконных штор, собирая в городе погоны, оружие и шпоры.
Никто из воспитателей теперь нас больше не тревожил, поэтому в назначенный день мы надели пестрые разнообразные формы и с хором «трубачей», то есть балалаечников, выстроились всем выпуском в зале.
Раздалась команда. «Генерал» выпуска, Гриша Иванович, в генеральском артиллерийском мундире своего отца, с саблей, важной походкой вошел в зал. Он поздоровался с парадом и, медленно обойдя фронт, обратился к выпуску со словом. Но вдруг, к нашему ужасу, отворилась боковая дверь и на пороге ее показался командир сотни генерал Леонтьев, возвращавшийся случайно из лазарета. Он опешил, замедлил шаги и издали с изумлением разглядывал шеренги странных офицеров… Гриша Иванович, однако, не растерялся и сразу подошел к «деревне» с рапортом. Генерал Леонтьев довольно серьезно выслушал его и прошел к середине строя. От Ивановича отделился его адъютант Володя Поляков, в белых «лосинах», иначе говоря кальсонах, и в экзотическом доломане, и, прыгая козлом, на воображаемой кровной лошади, передал командующему парадом приказание проходить церемониальным маршем. Леонтьев не удержался, улыбнулся и даже спросил: «А это что же, гусар, что ли?»
– К церемониальному маршу! Повзводно… на одну взводную дистанцию! – раздалась команда.
Хор «трубачей» грянул марш, и выпуск стал проходить перед начальством. Гриша Иванович, держа руку под козырек, почтительно склонялся к «деревне», представляя ему части… Легкая кавалерия шла курц-галопом.
Но вместо ожидаемой нами похвалы за старание, мы расслышали слова Леонтьева: «Дураки… жеребцы» – и «деревня» смеялся себе в бороду.
После рождественских каникул стали серьезно нажимать на занятия. Дело в том, что выпускные экзамены были объявлены обязательными по всем предметам. С другой стороны, в то время как кадеты не казаки могли выбирать между нашим юнкерским училищем, где было открыто четыре отдела: пластунский, конный, артиллерийский и инженерный, Кубанским, Киевским пехотным и Сергиевским артиллерийским, мы, коренные донские кадеты, были обязаны поступать только в наше Новочеркасское. Число вакансий на его артиллерийский, инженерный и даже конный отделы было довольно ограниченно, предвиделась конкуренция со стороны, и поэтому стало необходимым срочно выравнивать и поднимать свои отметки. Развлечения были заброшены. Мы насели на книги. Повседневная жизнь стала серьезной, сосредоточенной, и благодаря этому даже посыпались прибавки баллов за поведение. Борис Васильевич Суровецкий нередко теперь приходил из города в вечерние часы, чтобы помогать отстающим. Лучшие математики собирали вокруг себя слабых учеников, разбирали с ними задачи и натаскивали их по самым трудным вопросам. Кончить корпус должны были все, и на этом сосредоточилась воля выпуска.
И вот наступили экзамены. Пусть останется тайной, как именно мы подготовились к ним. Но, верно, для ныне здравствуюих наших бывших воспитателей и преподавателей будет необыкновенным сюрпризом узнать, что, хотя экзаменационные темы и хранились под ключом в кабинете инспектора классов, тем не менее главные из них стали нам известными в самый последний момент.
Каюсь в этом от лица всего ХХХ выпуска и даю слово, что совершилось это без всякого участия или попустительства кого-либо из воспитателей, преподавателей или служителей корпуса.
За темы по математике сразу засело несколько самых лучших учеников. Быстро решив задачи, они опрашивали каждого: «Сколько у тебя по этому предмету?» И если у кадета выходило шесть, ему давали решение на восемь баллов; если у него было восемь, то на десять и т. д. Эта умеренность была совершенно необходима, дабы у начальства не появилось подозрения в самостоятельности экзаменующихся. В общем же все оказались довольны, клянчившим же больше сообща порекомендовали уменьшить претензии.
Гораздо хуже вышло с темами по русскому языку: тут уж корпорация помочь ничем не могла, но все же открылась возможность проштудировать заранее намеченные вопросы. В конце концов после математики остальное было маловажно.
Когда на экзамене были объявлены темы, лица кадет угнетали сосредоточенностью. Самые сильные математики, как и следовало ожидать, сдавали работы первыми. Более слабые относили их с приличным опозданием, сделав тревожное или немного разочарованное лицо. Плохим же ученикам было приказано дотянуть до того момента, когда экзаменаторы начали сами почти силой отбирать решения задач у оставшихся. Улыбки не было ни одной. Но зато, вернувшись в сотню, экзаменовавшиеся особенно резво неслись в курилку, хлопали по плечу и щекотали друг друга. Царила полная радость, но причина ее должна была остаться секретом решительно для всех, кроме кадет ХХХ выпуска.
Преподавательский и воспитательский состав, видимо, был доволен ходом экзаменов. Правда, кадеты подметили, что на некоторых устных экзаменах Суровецкий подкладывал знакомые билеты кое-кому из наиболее слабых учеников, но страдные дни, затянувшиеся на добрый месяц, все же подходили к концу. Самое страшное – аналитическая геометрия, тригонометрия, русский – были сданы. Оставшиеся экзамены не пугали уже никого: на них, в крайнем случае, даже плохим ученикам можно было теперь и провалиться с полным чувством собственного достоинства.
Явившись как-то, как «приходящий», из дому на один из экзаменов, я узнал, что накануне в корпусе произошло необычайное событие.
Воспользовавшись дежурством скромного и неискушенного в кадетских проделках есаула Шерстюкова, ХХХ выпуск в темную безлунную ночь, целиком, в сапогах и фуражках, умудрился выскользнуть из постели, спуститься вниз и через оставленное открытым окно выбраться на плац перед корпусом. Один из кадет прихватил с собой трубу урядника. Два же других неизвестными средствами и путями проникли на колокольню корпусной церкви и подняли там трезвон во все колокола. Услышав его, патруль домовой охраны из местных жителей решил, что это набат и что в городе где-то замечен пожар или какая-то другая тревога. Трезвон кадетской церкви был подхвачен соседними церквями, и так пошло по всему Новочеркасску. А в это время строй голых кадет слушал с энтузиазмом несколько пламенных прощальных речей, обращенных к ХХХ выпуску. Один из кадет, взобравшись на тумбу, вдохновенно читал свои стихи, потом другой кадет, на трубе урядника, начал играть боевые сигналы. По ним повелось учение, закончившееся наступлением и смелой общей атакой метеорологической будки. Выпуск благополучно вернулся прежним путем в спальню. Набат же еще долго продолжал звучать в городе, где, видимо, никто ничего не понимал и обыватель беспомощно метался с пожарной кишкой или винтовкой в руках.
Начинать кампанию новых дознаний ввиду кончающихся экзаменов было невозможно. Конечно, на мое лицо «зачинщика» лишний раз было обращено особое внимание, но тут-то при всем желании меня зацепить никак было нельзя, так как в эту ночь я действительно спал дома, да еще на собственной кровати. Воспитатели ограничились каменными выражениями лиц, неприятными намеками и фразами: гроза бурлила где-то на неизвестной глубине.
И вот наступил день: последний экзамен был сдан. Заниматься стало нечем. Кадеты готовились к разъезду и проводили время в классах и в Сборном зале в долгих разговорах.
Потом Борис Васильевич Суровецкий сделал нам полный отчет о результатах экзаменов. В порядке старшинства по окончании корпуса был прочитан список выпуска и отметки, шедшие в аттестат. Поздравив нас с окончанием корпуса, Суровецкий перешел ко второй части своего сообщения: он объявил, что, по приказанию свыше, весь выпуск, с вахмистром во главе, вместо каникул, прикомандировывается на один месяц к юнкерскому училищу, отбывающему летний сбор в лагере на Пересияновке. Борис Васильевич пообещал нам, что там нас хорошо «возьмут в шоры», и с улыбкой просил этому нисколько не удивляться. Одиночных наказаний за недавний ночной выход никто не получил. Постановление начальства, хотя оно многих и не устраивало, мы приняли бодро и тоже с улыбкой.
Наконец был выпускной бал, и после этого мы уехали отбывать дисциплинарный стаж при юнкерском училище.
Осенью для окончивших во Фронтовом зале был устроен прощальный обед с воспитателями и преподавателями. Мы сидели вразбивку с ними и непринужденно разговаривали и с Федором Павловичем Ратмировым, и с милейшим «лаптем» Александром Ивановичем Абрамцевым[216], и с Федором Вениаминовичем Мюлендорфом, с нашим общим любимцем Иваном Николаевичем Лимаревым, с «деревней» и другими. Мы сами теперь объясняли им детали наиболее нашумевших наших проделок. Воспитатели и преподаватели казались совсем иными: не строгими, имевшими права на все наши радости и горести, а добрыми, досягаемыми, отечески приветливыми, тоже по-своему переживающими грусть прощания. Они сами заботливо угощали нас едой, подливали в стаканы вина.
Произносились тосты, от которых наворачивались слезы, и шире расправлялась наша грудь: Мы – ХХХ выпуск!
А в голове неясно мелькало: «Спасибо вам за все, дорогие наши церберы и экзекуторы, семилетние терпеливые жертвы нашей юности, строгостью, внимательностью и преданностью своему делу сумевшие обуздать и довести до конца нашу трудную и бурлящую семью. Прощай, родной, до смерти запечатленный в душе Донской Императора Александра III мой кадетский корпус».
После прощания поступившие в Новочеркасское военное училище кадеты строем, под командой своих офицеров, покинули навсегда корпусные стены. Это была последняя с нами служба Бориса Васильевича Суровецкого.
В училище нас приняли под свое покровительство бывшие донские кадеты – Миша Данилов, вахмистр 1-й конной сотни, и Володя Поляков, вахмистр 2-й пешей сотни. С этим перевернулась последняя страница нашей юности и началась другая жизнь.
Б. Прянишников[217]
После бала веселого…[218]
Не так давно на страницах «Родимого Края» появились подкупающие своей искренностью воспоминания Е. Крыловой о последнем бале в Донском Императора Александра III кадетском корпусе.
Давно это было – в 1919 году. Многое стерлось из памяти о тех давнишних днях, но, слава богу, не все. Отлично помню, что в тот день я был одним из распорядителей этого бала. Стараниями кадет в классных помещениях были устроены нарядные гостиные с картинами на стенах; были устроены также киоски с прохладительными напитками. Готовились к балу тщательно, ибо среди приглашенных были не только наши донские гимназистки и институтки, но также институтки Смольного и Харьковского институтов, вынужденные покинуть захваченные большевиками Петроград и Харьков.
Наш традиционный бал давался в день корпусного праздника, 6 декабря. Как известно, 6 декабря Православная Церковь праздновала день святого Николая Чудотворца.
1919 год… Год надежд на свержение большевистского ига. Но стал он годом трагических разочарований, годом гибели всего, что было тогда особенно близко сердцу донского казака и русского человека.
В этот день в стенах Донского кадетского корпуса веселье было безмятежным. Множество нарядной публики, заполнившей Сборный зал и гостиные, хозяева-кадеты, местные гимназистки и, конечно, в центре внимания институтки трех институтов. Танцы под звуки отличного духового оркестра. И конечно, флирт с новыми знакомыми, вызывавший ревность наших милых дончих. Эту ревность испытал и я на собственном опыте.
Охотно верю, что мой приятель Сережа Слюсарев[219] так молниеносно влюбился в харьковчанку. Что тут скажешь? Дело молодое, всем понятное – блажен, кто смолоду был молод. Все выглядит так волнующе и симпатично в предложении руки и сердца, сделанного Сережей харьковчанке Е.Л.
Сережа действительно был смелым и доблестным воином, пошедшим по зову сердца и патриотического долга на фронт борьбы с коммунизмом. В те дни немало кадет 6-го и 7-го классов уходило на фронт проводить с пользой для Отечества летние каникулы. Так и я провел лето 1918 года в рядах Партизанского пешего казачьего полка, впоследствии Алексеевского пехотного полка[220], прошедшего с боями по степям Ставрополья и Кубани во время Второго похода Добровольческой армии. Не помню только, был ли Сережа произведен в офицеры за отличие в боях. Но в то время такой случай был вполне возможен.
Отгремели вальсы и мазурки, в вихре которых носились юные пары, никак не предполагавшие, что над ними уже нависла с севера грозная вражья сила. Быстрыми бросками к Новочеркасску двигалась Красная армия. И праздник Рождества Христова мы все, кадеты 7-го и 6-го классов, встретили в Задонье, отступая на Кубань. В яркий солнечный день последнего Рождества в России на горизонте сияли золотом купола Новочеркасского собора, одного из самых больших и красивых соборов России. Не думал я тогда, что вижу собор в последний раз.
Отступая по Кубани, мы дошли до станицы Павловской, где и расположились по квартирам у местных жителей. Уже на походе из Новочеркасска через станицы Аксайскую и Ольгинскую наша старшая кадетская сотня была включена в Донскую армию. Мы несли разного рода тыловую службу. Вскоре наш XXXI выпуск, около 70 человек, был переведен на младший курс Атаманского военного училища.
Конец января 1920 года. Свирепствует тиф, валятся с ног один за другим юнкера. Заболел и я. И вновь, после очередных крупных неудач на фронте, нужно отступать. В морозный день нас, больных и по большей части находившихся в полубессознательном состоянии, погрузили в теплушки на станции Сосыка и отправили в Екатеринодар кружным путем через Староминскую и Тимашевскую.
В Екатеринодарском запасном госпитале № 4 ВСЮР я лежал в огромной палате для тифозных больных. Едва стал поправляться, как заболел другим тифом – возвратным.
Первые дни марта 1920 года. Красные подступают к Екатеринодару. И опять эвакуация. В вагонах санлетучки на всех полках, в том числе и на багажных, расположились больные юнкера, среди них – многие мои друзья и приятели. Страдали от последствий тифа, питались чем бог послал. Медленно тащилась санлетучка, умудрившаяся проделать за три дня путь, обычно преодолеваемый пассажирским поездом за четыре часа. Наконец прибыли в Новороссийск и перебрались из санлетучки в вагоны-теплушки, стоявшие в одном из железнодорожных парков огромной товарной станции Новороссийска.
Настали дни Новороссийской катастрофы. Утром 13 марта по-весеннему приветливо и ласково светило солнце. А где-то недалеко ухали пушки – красные подходили к Тоннельной. С трудом взобравшись на крышу теплушки, я был поражен открывшимся передо мною зрелищем. По обе стороны железнодорожного парка змеились колонны отступавших белых полков. Их было так много, что у меня невольно возник вопрос: неужели с таким количеством закаленных в боях воинов нельзя организовать крепкую оборону Новороссийска? И сразу пришел к заключению, что пора и нам, больным и, может быть, забытым, собираться и уходить в порт на погрузку.
К счастью, мы не были забыты. Начальник училища генерал Семенченков[221] послал, в сопровождении казака, старшего портупей-юнкера Н.Ф. Кострюкова, который сказал нам, что нас ждут на пароходе. Быстро стали собираться в трудный для слабосильных переход. Тех же, кто из-за слабости не мог двигаться, предполагали перевезти на подводах. Увы, подвод не оказалось, и около тридцати больных юнкеров попало в руки красных.
Среди тяжелобольных был и Сережа Слюсарев. Сквозь полузабытье он сообразил, что нужно уходить. Он едва выбрался из теплушки, но идти не смог. Тогда его посадили на лошадь Н.Ф. Кострюкова и поддерживали, чтобы он не свалился на землю. Так он вместе с нами добрался до Восточного мола, и как раз в тот момент, когда перегруженный людьми пароход «Россия» отчаливал от набережной. Не помню точно, успел ли Н.Ф. Кострюков погрузить Сережу Слюсарева на пароход. Помню только, что мы остались на молу в ожидании чуда. Закутавшись от холода в одеяла, разбросанные по молу из разграбленных отступавшими частями складов, мы, примерно двадцать юнкеров, задремали, предварительно насмотревшись на гигантские пожары, взметнувшиеся к вечернему небу над складами Новороссийска.
Чудо все же свершилось! Кто-то надоумил англичан, и ночью к молу, как раз против нас, пришвартовался их миноносец. Словно бревна, нас перебрасывали на палубу миноносца сильные руки английских моряков. Спасены!
Утром в открытом море англичане перегрузили нас на пустой угольщик «Доланд», видимо с опозданием шедший в Новороссийск, уже занятый красными. Черные от угольной пыли, через несколько часов мы прибыли в Феодосию.
А затем славные дни Крыма. Бои под Каховкой. Служба по охране тыла от зеленых в горах Крыма. Краткий период нормальных занятий в Севастополе. Последний поход училища на фронт после захвата красными Северной Таврии. Занимая участок фронта по Сивашу между Сальковским и Перекопским перешейками, мы слышали гул канонады на обоих наших флангах и готовились к последней схватке. Но она не состоялась – пришел приказ форсированным маршем уходить в Джанкой и дальше поездом в Севастополь. Вместе с Сергиевским артиллерийским училищем мы охраняли Севастополь во время посадки на пароходы отступивших от Перекопа войсковых частей. Последний парад на Нахимовской площади, принятый генералом Врангелем.
Лемнос, палатки и пронизывающая сырость греческой зимы. Скудный французский паек. Унылое настроение. И зов французских сирен: поступайте в Иностранный легион. Среди уговаривавших – бывший преподаватель французского языка в корпусе, Феликс Павлович Шмидт, офицер французской армии. К сожалению, зов сирен не остался гласом вопиющего в пустыне. Среди записавшихся был и Сережа Слюсарев. Что с ним сталось потом – в точности не знаю. Были вести, что пал он смертью храбрых в бою с друзами в Сирии. Вероятно, с ним пали и другие. Царство им Небесное и вечная слава!


