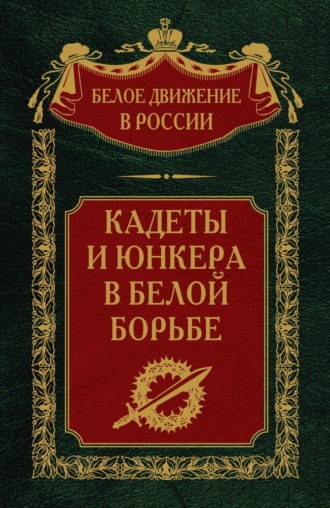
Кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужбине
Пополнялся интернат главным образом бездомными малышами, прибывавшими в Крым маленькими группами и в одиночку. Некоторым из них удавалось вырваться из городов, уже занятых красными. Водворяли их силой. Привозили вшивых, изорванных, разутых, больных, а иногда только что оправившихся от ран. Все они заботами начальника интерната полковника князя П.П. Шаховского и трех воспитателей: полковника Некрашевича[160] и капитанов Шевцова[161] и Шестакова[162], при участии каптенармуса, приводились в христианский вид. Их мыли, стригли, переодевали. Отбирали все, от головного убора до портянок включительно, поскольку у некоторых такие были. Вместо засаленных и испачканных фуражек и бескозырок, выдавались английские защитные «блины», которые при помощи колен и рук получали свой новый «заломанный» фасон, господствовавший в те времена в военной среде. О стройности и подтянутости, чем славились в России кадеты, нельзя было и мечтать. Да и как создать эту подтянутость, когда бриджи у большинства доходили под френчами чуть не до подбородка. Единственно можно было создавать намек на талию, перетягивая френчи кожаными поясами, от чего они вздымались на кадетских спинах парусами и еще больше безобразили фигуры. Но зато все это было чистым, сухим и теплым и защищало от временами бушевавших норд-остов. Поэтому «публика» с этим мирилась, постепенно собственноручно переделывая и перекраивая и создавая из этих даров «гордого Альбиона» что-то свое собственное, которое более отвечало тогдашним вкусам.
Занятия, если о таковых можно говорить, происходили в помещении местной гимназии. Происходили они в самое разное время. Преподавательский состав был из 3 лиц: В.А. Казанский[163], который исполнял обязанности инспектора классов, Н.Я. Писаревский[164] и полковник Доннер[165]. Преподавателям приходилось считаться со знаниями каждого ученика и сводить их в небольшие группы, занимаясь с несколькими группами сразу в одном помещении. К концу лета этого же года воспитанники старшего возраста были переведены в Ореанду, в образовавшийся там Крымский корпус. Младший возраст был разбит на 4 класса. О соблюдении какой-либо учебной программы не могло быть и речи, так как знания учеников были весьма разнообразны, учебников было недостаточно и они были совершенно случайными. К тому же настали большие холода – в октябре месяце мороз доходил до 20 градусов Реомюра. Воспитанники сидели в классах в шинелях и часто не могли выдержать положенного на урок времени, так как у них замерзали руки и ноги. Ко времени эвакуации Крыма в интернате было более 100 человек, в возрасте от 8 до 16 лет.
Был конец октября 1920 года; в корпусе начиналась работа по налаживанию нормальной учебной жизни, но в эти дни Русская Армия, предоставленная собственным силам, должна была начать отход после неравной, жестокой борьбы, и назрел вопрос об общей эвакуации Крыма.
Крымский кадетский корпус покинул пределы своей родины в ночь на 1 ноября 1920 года (ст. ст.). Он был погружен в Ялте, в составе трех рот, на паровую баржу «Хриси». Младшая рота погрузилась на пароход «Константин», где она не подвергалась опасности рискованного плавания, каковым был переход через Черное море на плоскодонной барже «Хриси», предназначенной для мелких рейсов вдоль морских берегов.
Капитан и небольшая команда баржи были явно враждебны и старались помешать отплытию. Только угроза применить крутые меры заставила механиков спешно починить якобы испорченные машины и вывести баржу в море. Наличие в составе корпуса двух кадет, прослуживших некоторое время на флоте добровольцами, предотвратило попытку капитана баржи отвести ее в Одесский порт. Сменяясь у штурвала, новоиспеченные «капитаны» – кадеты Каратеев и Перекрестов – на пятые сутки привели баржу в константинопольский рейд, предварительно выйдя к Анатолийскому побережью километрах в сорока от Босфора. На реях «Хриси», кроме позывных, развевались также сигналы «Терпим голод» и «Терпим жажду». Вся «Белая Русь» находилась уже здесь – рейд был усеян нашими военными кораблями, пароходами, транспортами и баржами.
Вскоре по прибытии все кадеты были пересажены на большой пароход Добровольного флота «Владимир». Там к корпусу присоединились воспитанники Феодосийского интерната с полковником князем Шаховским, эвакуировавшиеся из Крыма на пароходе «Корнилов». Составилась целая армия молодежи – свыше 600 человек – в разнообразном воинском и кадетском одеянии. Карантинное полуголодное стояние на рейде Константинополя затянулось, так как выяснилось, что ни одна страна не проявила ни малейшего интереса к судьбе русских юношей. Наконец, когда пришло радостное известие, что королевич Александр принимает корпус на территорию своего королевства, пароход «Владимир» взял курс на Адриатическое побережье Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, как тогда называлась Югославия, и 8 декабря 1920 года (н. ст.) прибыл в бухту Бакар. Во время плавания первая рота была разоружена.
Л. Сердаковский[166]
Чему Господь свидетелем меня поставил[167]
Успехи белых армий в 1918–1919 годах вызывали у русских в Тифлисе радость и надежду, особенно среди нас, кадет. Нам было обещано, что мы будем приняты во вновь открытый Владикавказский корпус, куда уже стекались кадеты из всех концов Центральной и Южной России. В Тифлисе составилась группа в 30–40 кадет с двумя офицерами. Горечь расставания с болеющим отцом, матерью и бабушкой, всегда жившей с нами, смягчалась сознанием, что это временная разлука. Мы были уверены, что раз мы опять надеваем кадетские погоны, значит, белые побеждают и мы все вернемся к нормальной жизни, прерванной революцией. Сборы были недолгие, и в начале ноября мы тронулись на двух фургонах по Военно-Грузинской дороге во Владикавказ. Красота этой дороги действительно стоит многочисленных восторженных описаний. Строгое величие Кавказского хребта, столь отличное от уютной романтики Альп, и спокойная прелесть долин Грузии, с поросшими мхом старинными церквами и башнями, были особенно дороги нам, мальчишкам, родившимся и выросшим на Кавказе, где, по словам Бальмонта, «скалы учат силе, а цветы учат нежности». Бальмонт перевел на русский язык поэму средневекового грузинского барда Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре», воспевающую царицу Тамару (1148–1213). Царица Тамара и грузинской, и русской церковью почитается святой. Ее правление было самой блестящей страницей грузинской истории. Лермонтовский образ властительницы Дарьяльского ущелья, сбрасывавшей своих любовников в бурлящий Терек, не имеет ничего общего с исторической царицей Грузии. Святая Тамара была одно время неудачно замужем за князем Юрием, сыном Андрея Боголюбского, потом за осетинским князем Давидом из рода Багратионов. Перевод Бальмонта по праву считается одним из лучших.
Ноябрь – неподходящий месяц для горных путешествий. Начались холода и снежные бури. У туннеля «Майорша» произошел обвал, и нам пришлось дальше идти пешком. К Крестовому перевалу мы добрели замерзшие и усталые. В маленьком духане, полном дыма, грузин и горцев, я первый раз в жизни выпил рюмку коньяка. С непривычки сараджевский коньяк показался мне огнем, но действие его было замечательным. Я сразу ожил, слегка закружилась голова, отяжелели ноги, и жизнь не представлялась уже такой мрачной, как казалась в дороге. Немало рюмок коньяку я осушил потом, но ни одна из них не была столь приятной.
Незабываемое впечатление производит рассвет в горах. В темноте сначала озаряются первыми солнечными лучами вершины самых высоких гор. Постепенно темнота спускается вниз, и горы появляются во всей их ослепительной снежной красоте. А Казбек! Вершина, ниже монастырь и селение. Туч не было, и мы могли им вдоволь налюбоваться. На грузинско-русской границе (что для нас звучало дико) нас приветливо встретили бравые кубанцы-пластуны в английских шинелях. По их бодрому настроению никак нельзя было предположить, что на фронте далеко на севере, под Курском, начались неудачи. Мы ничего не знали о латышской и эстонской дивизиях, переброшенных красным командованием с затихшего польского фронта на Деникина. Усталые, но довольные, мы, наконец, добрались до Владикавказа.
Первое, что мы увидели, было желтое здание корпуса, памятное мне с раннего детства. Столпившись в вестибюле, мы услышали равномерный грохот: первая, строевая, рота шла в столовую. В противоположность вольцам и тифлисцам, владикавказцы шли сдвоенными рядами. Разнообразие погон: на основном желтом фоне мелькали алые, синие, белые, черные – здесь были кадеты почти всех российских кадетских корпусов. Изредка виднелись Георгиевские кресты и медали и нашивки, указывающие ранения. Это были не дети, учащиеся, а боевая молодежь, понюхавшая пороху. Приехавший до нас один из старших тифлисцев князь Химшиев предупредил, что во Владикавказском корпусе строгая, строевая дисциплина и надо быть все время начеку. Вечером в ожидании сигнала строиться на ужин мы болтались поближе к залу первой роты и по первому звуку помчались туда. Поздно: рота была уже выстроена. «Тифлисцы! – крикнул вице-фельдфебель, терский казак Карпушкин[168]. – Это вам не Головинский проспект, потрудитесь не опаздывать!» Однажды рота была собрана вечером в одном из классов. Посередине сидела группа старших кадет разных корпусов.
Старший из них сказал краткую речь, что вот, мол, мы съехались со всех концов России в гостеприимный Владикавказский корпус и рады, что нам дается возможность восстановить старые традиции. И посему вводится кавалерийский цук: старший по поступлению в корпус кадет объявляется «генералом выпуска», следующий – «полковником» и т. д. Этот вид традиции был заимствован некоторыми корпусами из кавалерийских училищ. Цука не было ни в Вольском, ни в Тифлисском корпусе. Когда мы расходились, владикавказцы шли хмурые и перешептывались. На другой день было передано по классам, что владикавказцы никакого цука и «генерала выпуска» не признают и в корпусной жизни все остается по-старому. Старшим кадетом является, как полагается по уставу, вице-фельдфебель. «Кавалеристам», как гостям и меньшинству, ничего не оставалось, как подчиниться решению хозяев.
Я чувствовал себя больным, но все-таки пошел в отпуск к другу моего отца, персидскому консулу Давуд-хану. У него были гости, и я наслушался разговоров. Оказывается, Белая армия под давлением значительно превосходящих сил красных катится на юг и вряд ли сможет задержаться на подступах к Кавказскому хребту. Особенно пессимистично был настроен сам хозяин. Давуд-хан вырос на Кавказе и хорошо знал обстановку. Он громил разбухший и разложившийся тыл белых и не надеялся ни на какую помощь западных союзников. Я в мрачном настроении вернулся в корпус, а через два дня попал в переполненный лазарет с сыпным тифом и воспалением легких. В 1919–1920 годах свирепствовала «испанка», особенно зловредный грипп, от которого умирали сотни тысяч людей. Когда я пришел в себя, то узнал, что во Владикавказе находится и Петровско-Полтавский корпус, эвакуированный из Полтавы. Их корпусной врач, милейший доктор Дербек[169], обходя своих полтавцев, всегда осматривал и меня. В лазарете начались хлопоты и волнения: запахло эвакуацией. Ко мне зашел старший врач доктор Передельский и сказал, что я так слаб, что брать меня с корпусом по Военно-Грузинской дороге он не рискует, и поэтому я буду оставлен в городе. К счастью, Давуд-хан взял меня к себе в консульство. На меня надели персидскую шапку и дали мне легкую работу в конторе.
Первыми вошли во Владикавказ скрывавшиеся в горах красные партизаны, под командой товарища Гикало. Среди них было много китайцев из отряда Пау-Ти-Сана. Китайский отряд был сформирован Кировым. Это были настоящие банды. Регулярные части Красной армии показались мне похожими на их царских предшественников: те же круглые русские лица, та же походная форма, только без погон, кокард и иногда без поясов. Командный состав был, наоборот, совсем не похож на царских офицеров. По городу часто расхаживал какой-то старший командир с маленькой щеголеватой бородкой, воинственного, но никак не воинского вида: коричневый френч и галифе, желтые сапоги со шпорами, тросточка и неизменный револьвер. Вероятно, так же выглядел и известный авантюрист Котовский, из которого советская пропаганда сделала героя. Вскоре этот опереточный персонаж исчез: ходили слухи, что он был арестован Чекой[170].
Для налаживания дипломатических связей Давуд-хан пригласил в консульство на обед командира дивизии, взявшей Владикавказ, и его помощника. Не знаю, был ли это начальник штаба или политрук. Мне было приказано сидеть в своей персидской шапке на левом фланге и безмолвствовать. Советские гости были в неопределенной походной форме и показались мне похожими на дореволюционных писарей, сменивших свой дешевый шик на боевую подтянутость. В разговоре кто-то на правом фланге вместо «Антанта» сказал «Анкета», но все сделали вид, что ничего не заметили. Гости как будто не обращали на меня внимания, но я несколько раз ловил быстрый любопытный взгляд начштаба. Вероятно, несмотря на свою высокую персидскую шапку, я мало походил на перса.
В городе начались аресты буржуазии, «изъятие ценностей», ночная стрельба. Заработала Чека. В числе ее сотрудников оказался один из нашей компании молодежи, интеллигентный еврей, сын местного аптекаря. Он знал, что я кадет, скрывающийся в персидском консульстве, но меня не выдал. Тогда еще иногда действовали дореволюционные нормы человечности. В консульство вселилась и перепуганная горско-бельгийская семья Бамат-Аджиевых. Отец – бывший офицер царского конвоя – хорошо знал моего отца. Сопровождая Императора, он проезжал Брюссель, влюбился в красивую блондинку-немку и умудрился вывезти ее на Кавказ. Она приняла магометанство, стала Султан-ханум, выучила русский и горский язык своего мужа и родила ему двух дочерей. Нина и Эмма совмещали в себе прирожденную западноевропейскую культурность с горячей природой горской женщины. Слушая рассказы обо всем творящемся кругом и красных расправах, Султан-ханум охала и вспоминала свой далекий и спокойный Брюссель. А молодежь оставалась молодежью. Мы гуляли в «Трэке», и – о, глупость, о которой стыдно вспоминать, – я щеголял в гимнастерке с перемычками от снятых погон, вот, мол, посмотрите, кто я, белогвардеец. Давуд-хан решил, что мне пора возвращаться в Тифлис, к матери. Это было своевременно: вскоре после моего отъезда он, несмотря на всю свою дипломатическую неприкосновенность, был арестован и отправлен в Москву, где ему было предъявлено обвинение в укрывательстве «группы деникинских офицеров». Давуд-хан пристроил меня к своему предшественнику, уезжавшему по болезни. Давуд-хан выправил мне документы на девичью фамилию моей матери, так как допускал, что местные старожилы-революционеры помнят моего отца – «золотопогонника». Мы тронулись по Военно-Грузинской дороге в Тифлис. И опять безрассудство: я взял с собой якобы хорошо спрятанные открытки-портреты белых вождей Алексеева, Корнилова, Деникина, Врангеля и Шкуро. Для чего было так глупо рисковать – сейчас уму непостижимо! Большевики не щадили кадет, и найди они у меня этот контрреволюционный материал, я был бы кончен. Действительно, Бог хранит детей и пьяных. Путешествие по Военно-Грузинской дороге летом было гораздо приятнее нашего ноябрьского следования. Я забыл об открытках и любовался природой. К счастью, на советской стороне осмотр прошел благополучно, и мы оказались в безопасности на грузинской. Командир грузинского пограничного поста, посмотрев мои бумаги, спросил: «Месхиев? Я кончил Тифлисский корпус с Ираклием Месхиевым. Кем он вам приходится?» – «Родной дядя». – «А, вот как. Чей же вы сын? Нины Месхиевой? Знал и ее. Но погодите! Если вы сын Нины Месхиевой, ваша фамилия не может быть Месхиев! Тут что-то не то…» Мне пришлось все объяснить. Капитан посмеялся и сказал: «И отца вашего помню. Ну, хорошо, что вы напоролись на меня, а не на какого-нибудь формалиста. Вернул бы он вас на советскую сторону, а там – сами понимаете…» Я горячо поблагодарил доброго грузина и тронулся дальше.
Недалеко от советской границы к нашему фургону подошел горец, оказавшийся ротмистром Эльдаровым. Вместе с Кавказской армией генерала Эрдели он перешел в марте грузинскую границу, но остался поблизости, надеясь организовать в горах партизанское движение против красных. Большевикам удалось сделать то, чего не могли ни царская администрация, ни горские старейшины – примирить осетин и ингушей, всегда враждовавших между собой. Два месяца большевистского гнета оказалось достаточно, чтобы они забыли эту вражду и почувствовали себя братьями, имевшими общего врага.
Свои последние гроши я потратил на билеты на автобус до Мцхета и с трудом добрался оттуда до Тифлиса, плотно закрытого для всех бегущих из оккупированных большевиками областей. Мать и бабушка были несказанно рады увидеть меня дома. В передней сиротливо висела отцовская шинель с красными генеральскими отворотами. Непростительно эгоистична и бездумна бывает молодость. За два месяца жизни в Тифлисе я много раз собирался и ни разу не собрался посетить могилу отца. Более того, последние вечера в Тифлисе я проводил не с матерью, ожидавшей до поздней ночи своего единственного сына, а с малознакомыми девицами в летнем саду бывшего грузинского дворянского собрания. Там же я познакомился с молодым дипломатом из польского посольства. Он оказался бывшим кадетом, что нас сразу сблизило. Когда я, раздираемый запоздалым раскаянием, написал матери из-за границы с просьбой простить мое невнимание, она ответила, что не помнит, чем я перед ней провинился, и прощать ей нечего.
В Тифлисе осталось мало кадет. Кто мог, пробирался в Добровольческую армию, где многие кончили свою молодую жизнь в борьбе с беспощадным врагом. Ходили слухи о большевистских зверствах, называли фамилии замученных. Красные вырезали на плечах захваченных кадет погоны и не останавливались перед другими, более мучительными и циничными жестокостями. Кадеты-грузины одни поступали в училище и собирались служить в грузинской армии, другие уезжали в Крым. Было приятно слышать лестные отзывы о грузинах в армии Врангеля: генерале Ангуладзе[171], командовавшем одной из немногочисленных пехотных дивизий, полковнике Думбадзе[172], лихом дроздовском артиллеристе, его брате Ревазе[173], адъютанте легендарного Кутепова[174], и других. Одиночки готовились в университет и заранее нацепили сине-голубые студенческие фуражки, ставшие мишенью меткого кадетского зубоскальства. Собралась небольшая группа кадет, решивших ехать в Крым к Врангелю. Заправилой был некто Борис, недавно приехавший с территории Добровольческой армии и много нам рассказывавший, как идет там освобождение от большевиков. Для пущей важности он выступал иногда под именем «Илья» и не скупился на уговаривания. Но особенно и уговаривать не надо было: мы все стремились в Крым. К большому огорчению моей матери, я тоже решил ехать. Мать понимала мои побуждения и поэтому меня не отговаривала, но ей было очень тяжело расставаться. Накануне нашего отъезда зачинщик Борис-Илья вдруг передумал и горячо убеждал нас отказаться от поездки к Врангелю. Что его заставило так круто переменить свое решение – осталось загадкой. Но мы твердо решили ехать, и никто из нашей группы его не послушался. Были выправлены нужные документы, и через несколько дней мы выехали в Батум. Официально конечной целью нашего путешествия был не Крым, а Константинополь. Грузинские власти боялись навлечь на себя гнев новых северных соседей – Советской России, и поэтому о Крыме никто не заикался. Сидя в вагоне батумского поезда, было трудно предположить, что через несколько недель мы действительно окажемся в турецкой столице. Вероятно, среди пассажиров в поезде были и советские агенты. Какой-то прилично одетый господин в штатском, с бородкой и бегающими глазами, все время заговаривал с кадетами, намекая, что и он едет не в Константинополь, а в Крым к Врангелю. Его настойчивое любопытство было подозрительно, и мы не удивились, когда белая контрразведка в Севастополе пригласила его к себе на разговор.
В Батуме я пошел навестить семью «одесского» генерала Думбадзе. Я долго стучал, пока меня впустили в дом. В Батуме свирепствовала холера, и город казался вымершим. Богатая полутропическая растительность, плещущееся море и уютные дома с садами не могли рассеять гнетущего настроения. Думбадзе засыпали меня вопросами о Крыме, когда Врангель начнет наступление и освободит Юг России. Они рвались в свою Одессу и были уверены в успехе Врангеля. После сравнительно спокойного перехода через Черное море – мое первое морское путешествие – мы, наконец, в Севастополе. Всюду развеваются бело-сине-красные и андреевские флаги, приведшие нас в восторг, – как будто не было ни большевистского кошмара во Владикавказе, ни внешне спокойного сидения на готовом к извержению вулкане в Грузии. Севастополь с его знаменитой панорамой севастопольской обороны, казенными зданиями, Графской пристанью и множеством военных судов напоминал своим военным профилем Владикавказ. Но там царили горы и армия, а здесь – море и флот. Город кишел военными в различных формах и чинах – больше всего было молодых офицеров знаменитых «цветных дивизий», Корниловской[175], Марковской[176], Алексеевской[177] и малиновой Дроздовской[178]. Мы сразу превратили наши полуштатские костюмы в форму и с гордостью нацепили свои кадетские погоны. Нас облюбовал вербовщик, капитан-марковец, и стал убеждать ехать с ним в артиллерию Марковской дивизии, где уже было много кадет. Я робко возразил, что хотел бы попасть в Сводный полк моей родной Кавказской кавалерийской дивизии[179]. Марковец окинул критическим взглядом мою худущую фигуру и сказал: «Ну куда вам в кавалерию, рубиться со здоровеннейшими буденновцами! Они вам быстро голову снимут». Судьба в лице генерала Врангеля сама сделала выбор: последовал приказ Главнокомандующего об отправке всех не кончивших корпус кадет в сводный Полтавско-Владикавказский корпус в Ялте. На севастопольских улицах нельзя было зевать: я дважды получил замечание за неотчетливое отдание чести. Военные были одеты скромно, некоторые даже бедно, но радовала глаз их бодрость и подтянутость. Последствия тяжелого отступления от Курска к Черному морю были преодолены и психологически, и организационно. Чувствовалась убежденность в правоте и успехе своего дела и вера в своего Главнокомандующего. Это были не толпы беженцев в форме, как рассказывали про Новороссийск, а боевой и патриотический отбор. Недавно части Белой армии, переименованной генералом Врангелем из «Добровольческой» в «Русскую», наголову разбили знаменитый конный корпус Жлобы, угрожавший Крыму. Большую роль сыграла белая авиация под командой генерала Ткачева, громившая красных с воздуха. Газеты восторженно приветствовали эту победу. Выход белых войск в Северную Таврию, как мы знаем теперь из советских же источников, вызвал переполох у красных. Новый командующий Южным фронтом Фрунзе в панике доносил Ленину, что «операция, предпринятая Врангелем, имела очень широкий размах и при удаче грозила нам уничтожением всех сил фронта… 13-я армия, несмотря на значительные подкрепления, ударов врага не выдерживает… дух войск сломлен, среди масс идут разговоры об измене; свежих сил, резервов нет… В самом Харькове у меня нет сейчас ни одной надежной части… Чувствую себя со штабом окруженным враждебной стихией…».
Этот советский документ показывает, как возможна и близка была победа белых даже в таких, казалось бы, безнадежных условиях, как крымское сидение. Советская историография и литература о Гражданской войне так цинично лжива и тенденциозна, что массовому читателю трудно добраться до истины – что же действительно происходило в один из самых трагических и жертвенных периодов тысячелетней русской истории. Но, слава богу, органическая жажда к чтению и мужество отдельных советских редакторов и писателей в России помогают правде пробиться через эти завалы лжи. Постепенно отмирают выдуманные мифы о каких-то «14 походах» Антанты, о вооруженной интервенции капиталистических стран, о гениальной стратегии Ленина, Троцкого и Сталина, о классовой сущности Гражданской войны и т. д. Поэтому в стране не может не идти переоценка политических ценностей. Я лично в этом убедился.
В 1972 году мы с женой, проходя по узкой улочке старого Иерусалима, столкнулись с группой израильских фотографов и журналистов, сопровождавших какую-то молодую пару. Острые глаза жены сразу определили, кто это: известный танцор Валерий Панов и его жена Галина, только что вырвавшиеся в Израиль. Когда мы познакомились, я в шутливом тоне предупредил Панова, что я «белогвардеец». Я всегда говорю это при встрече с эмигрантами-евреями, чтобы они знали, с кем имеют дело. Реакция Панова была неожиданной и очень для меня приятной. «Белогвардеец? Да это герои, честные люди! Они первые взялись за оружие против коммунистов. Это трагедия, что они не победили. Галина, могла ли ты мечтать, сидя в Советском Союзе, что скоро увидишь настоящего белогвардейского офицера?» Панов, которого я считал представителем той социально-этнической группы, в которой меньше всего можно было ожидать симпатий к белым, и я обнялись. Сопровождавшие его израильские чиновники, упорно называвшие его «гражданин Панов» (от «товарища» отстали, к «господину» не пристали), не были в восторге от этого объединения. Я вспомнил остроту, ходившую среди недавних советских граждан, эмигрировавших в Израиль: «От большевиков уехали, к меньшевикам приехали».
Громадная заслуга Врангеля была не только в том, что он преобразовал, воскресил Белую армию и с честью вывез ее и многие тысячи гражданских лиц из Крыма, а и в том, что он правильно подошел к важнейшему вопросу о земле. Председателем Совета министров во врангелевском правительстве был старый и опытный государственный деятель имперского размаха А.В. Кривошеин[180], сотрудник Столыпина и последний министр земледелия Императорского правительства. Подготовленная и проведенная им земельная реформа в Крыму сразу дала положительные результаты: крестьянство успокоилось, партизанское движение пошло на убыль. К сожалению, это было слишком поздно и географически слишком ограниченно. Крым – только маленький кусочек громадной территории России.
Но вернемся к Севастополю. В толпе мелькает с детства знакомая форма: малиновая фуражка, малиновые полулампасы, серебряный прибор – Северский драгун[181]. Я подхожу к полковнику, беру под козырек и называю себя. Он всплескивает руками и обнимает меня. Через 11 лет, приехав в Париж на всемирную колониальную выставку, я разыскал «маневра» Туганова[182] в дешевой гостинице. Вместо блестящего штаб-офицера Кавказской кавалерийской дивизии передо мной сидел старенький худой кавказец в более чем скромном штатском костюме. О нем, о Северском полковом объединении и вообще о военной эмиграции будет сказано позже.
Я пошел в штаб, чтобы повидать помощника дежурного генерала, генерал-майора Эрна[183], последнего командира Северского полка. Всюду порядок, чистота и приветливая деловитость. Генерала я не застал, но познакомился с нижегородским драгуном ротмистром Червиновым[184], братом нашего северца. В казарме, где мы остановились, жили кадеты, кончившие сводный Киево-Одесский корпус в столице Боснии Сараево и только что приехавшие в Крым для поступления в армию. Сараевцев направили в Сергиевское артиллерийское училище, а нас, небольшую группу тифлисцев, – в Ялту. Там в бывшем царском имении Ореанда, рядом с Ливадией, был размещен сводный Полтавско-Владикавказский корпус с новым директором, генерал-лейтенантом Римским-Корсаковым. Переход из Севастополя в Ялту на маленьком пароходе был малоприятным развлечением. Сильно качало, особенно когда мы огибали южную оконечность Крыма, так что нам свет был не мил. Много позже я пересекал неспокойной осенью Атлантический океан, плыл из Хайфы в Венецию по Средиземному, Ионическому и Адриатическому морям, и вот это было удовольствие. Первенство в сильных морских ощущениях крепко осталось за Черным морем. Чудная ялтинская природа, летнее солнце, горы, казавшиеся кадетам из России чем-то вроде Гималаев, а нам, кавказцам, – чем-то вроде холмов, привычная, несмотря на полуголодное питание одной камсой, корпусная обстановка, и, главное, 16-летний возраст способствовали быстрому выздоровлению. В лазарете много играл в шахматы с Пушей Зеленским[185], которого через 58 лет похоронил в Вашингтоне, собирал кизил с Толей Жуковским[186], ставшим в Белграде балетмейстером Королевской оперы, и ходил в отпуск в город. В Ялте жили мои грузинские родственники, семья Кокоши Думбадзе, офицера-летчика, сына знаменитого ялтинского градоначальника и свитского генерала. Про генерала ходило множество еврейских анекдотов. Не анекдот, а факт имел место незадолго до войны на одном из модных немецких курортов, куда он приехал лечиться. Не зная ни одного иностранного языка и не имея знакомых, генерал в непривычном для него штатском костюме присоединился к компании богатых русских евреев, любимой темой разговоров которых была его персона. Он внимательно слушал всякие истории о себе, интересовался подробностями и от души смеялся. Анекдоты были не очень остроумны, но все рассказывали и переживали их с удовольствием. Вот несколько примеров. Один еврей восхищается тем, что Император Николай II, желая проверить пригодность нового пехотного обмундирования, с полным походным снаряжением исходил всю Ливадию. «Это ерунда, – говорит другой еврей. – Вот если бы он надел наш лапсердак и прошел мимо думбадзевского дома – это был бы геройский поступок!» Недалеко от берега тонет еврей и, увидев проходящего по набережной генерала Думбадзе с городовым, взывает о помощи. «Не трогать его!» – говорит генерал. Тогда догадливый еврей кричит: «Долой самодержавие!» – на что немедленно следует генеральское: «Взять его!»
Уезжая, Думбадзе послал развлекавшей его компании бутылку шампанского и визитную карточку с благодарностью за прекрасно проведенное время и за интересные подробности о его жизни, о которых он не имел ни малейшего понятия. Генерал умер за год до революции.
Вопреки всем этим анекдотам, ялтинские евреи отнеслись к его семье очень сердечно и помогали чем могли в трудные дни.
Посещал я также и нашего дальнего родственника князя Черкезова, исполнявшего в Ялте обязанности грузинского консула. Когда красные взяли Перекоп и падение Крыма стало вопросом дней, Черкезов и его милая русская жена убеждали меня оставаться с ними и не эвакуироваться с корпусом куда-то в полную неизвестность. У них, мол, дипломатическая неприкосновенность, надо будет только переждать первое время, а потом они переправят меня домой, в Грузию. Но я уже пережил прелести советского владычества во Владикавказе и понимал, что в Ялте будет еще хуже. Разговоры о том, что большевики в 1920 году уже не такие свирепые, как были в 1918-м, меня не убедили.


