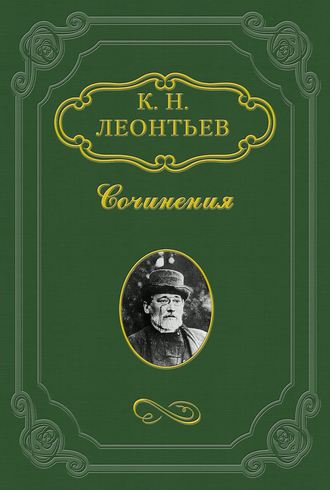
Константин Николаевич Леонтьев
В своем краю
XIII
Когда после отъезда гостей из Троицкого в доме все утихло и последний раз зазвенела сенная дверь, которую затворил за собой истопник, почитатель Баумгартенова таланта, – Милькеев не мог заснуть; он погасил свечу, которая мешала утреннему свету, опустил сторы и долго ходил по комнате. Внезапный гнев Руднева, его отъезд, когда постель уже была готова, – все это навело его на догадку о любви Руднева к Любаше…
Едва только он убедился в этом, как им овладело раскаяние. Не Любашу щадил он в этом случае; он еще не кончил… В его глазах женщина не падала оттого, что любила до брака вполне; он сам бы женился с удовольствием на такой девушке, если бы он вообще хотел жениться; и много случаев русской жизни доказывали ему, что прошедшее не мешает русским девушкам выходить замуж и быть счастливыми не хуже безукоризненных; но увлечь девушку он считал позволительным только тогда, когда сам увлечен и когда девушка страстна и мечтательна, когда она борьбу и наслаждение в силах предпочесть покою и миру. Словом – такт был здесь для него важнее правил. Любаша была не такова; да и сам он не чувствовал к ней ничего сильного; она представилась ему довольно новой и занимательной по простоте и по веселости, которые, к несчастию, у нас встречаются все реже и реже, и он занялся ею. Желание настоять на своем разжигало его… И при всем том у них не доходило даже до поцалуя. Раз только, в один из тех несравненных зимних вечеров, когда все маленькое общество их блаженствовало после работы, они, вальсируя, вышли из гостиной в залу; Любаша пожала ему руку (так что перчатка ее лопнула) и сказала, вздохнув так сладко: «Ах, Боже мой! я не знала, что здесь так хорошо…» Дальше этого у них никогда не заходило… Он, конечно, не был уверен, как бы дело пошло дальше, и потому досадно было оставить! Катерина Николаевна не позволяла ему ухаживать за Nelly, и, глубоко уважая серьезную девушку, он боялся в самом деле прикоснуться к святыне ее чувств; здесь хотел попробовать (ведь без романа скучно!) – и здесь нельзя… Эту бы он не пожалел и для ее же пользы, для ее «развития» довел бы ее хотя до поцалуя в зимнем саду… Но Руднев, милый Руднев! Этот нежный сын крестьянки, его умный собеседник; эта душа, только с виду трепетная, внутри же чистая и твердая – его ли оскорбит он, у него ли отнимет он скромную отраду брака? Руднев не создан для бродячей жизни… Его назначение – ровный, честный труд, любовь спасенных им людей, наука и цветущая семья… Решившись оставить Любашу, Милькеев повеселел; ему казалось, что Руднев тоже не спит. Он пошел сам на конюшни; кучера уже проснулись, запрягли ему сани в одиночку, и он поехал в Деревягино.
Руднев не спал, но дома его не было.
Милькеев встретил дядю.
– Вы уже встали? – с удивлением спросил он старика.
– Привычка – вторая натура, – сказал дядя, – привычка – вторая натура… Привычка вставать в 7 часов.
– А что, доктор спит?
– Доктор уехал…
– Уехал!
– Напился только кофею и немедля в округ. Я и сам его просил отдохнуть, увещевал, просил-просил, увещевал – ничего! «Я, говорит, и то не в свои сани залез, говорит, в свет пустился уж очень…» Милькеев молчал. Он бы хотел погнаться за Рудневым, броситься к нему на шею, уверить его, что Любаша к нему равнодушна. Сколько проездит он в этом сомнении, в этом страдании!..
– Есть старинный стишок: «Наш доктор сердце потерял! ловите, девушки, ловите!» – заметил между тем дядя, лукаво и не без радости поглядывая на Милькеева.
Когда Милькеев приехал в Троицкое, все, в том числе и Любаша, спали; он сам заснул, давши себе слово отдаляться от милой девушки, как бы трудно и досадно ни было ему иногда; но когда проснулся далеко за полдень – Любаши уже не было; Катерина Николаевна лежала с головной болью в постеле, Nelly грустно сидела в зале у окна, Баумгартен задумчиво играл у себя в комнате на скрипке; дети бродили по комнатам.
– Скучно без гостей! – сказала Оля, лениво влезая к нему на колени.
– Скучно без гостей, – повторили Федя и Юша хором.
– Ему без Любаши скучно, – заметила Маша.
– Tout passe! – сказала Nelly, подавая ему руку.
– Tout change! – отвечал Милькеев, взял книгу из шкафа и сел читать.
Между тем Руднев мчался в кибитке на службу. Пересказать все отвращение, которое он чувствовал то к себе, то к Милькееву, невозможно. Даже Любаша на минуту не раз падала в его глазах: то, что прежде казалось ему не только естественным, но и основательным в ее вкусах, теперь унижало ее.
«Нет, она пуста и недобра! На что прельстилась! Ведь истинно хороших сторон Милькеева она не понимает; она любит его рост, его находчивость! Пустые качества, которыми и Воробьев сумеет блестеть на уездном бале!.. Да! на уездном!» – думал он потом. «А этот разве только на уездном?» Больше же всего он презирал себя за свою слабость, за свои уступки, за то, что он согласился покинуть свое одиночество и увлекся куда же!..
– Ворона! Ворона в павлиных перьях! – твердил он… – Ощипали жалкую ворону! ощипали, и поделом…
Наконец он заснул и проснулся только у избы старшины, которого должен был освидетельствовать. Здесь ожидало его несколько тихих утешений. К счастью, старшина был в самом деле болен, и кривить душой из гуманности ему не было нужно; потом пришла старуха и бросилась ему в ноги, благодаря за сына, которому он купил лекарства на свои деньги.
– Батюшка, отец мой, – говорила она, – отец ты наш родной. Спасибо тебе, что ты нами не брезгаешь!
– Встань, Матрена, встань, – говорил сконфуженный Руднев, – встань, что я – образ, что ли, что ты передо мной лежишь… Это грех… Бога благодари… Без него, Матрена, и я бы не помог. Встань же, голубушка, прошу я тебя… Ведь это моя служба, я за это жалованье получаю.
– И не говори, отец мой, что жалованье!.. Что жалованье? А то дорого, что ты нами, бабами да мужиками, не брезгаешь! Я уж, ты не прогневайся, яичек и холста тебе принесла. Возьми, ото всей души я тебя прошу…
– Не надо, старушка; нечего мне и брезговать-то… Моя мать была такая же крестьянка, как ты.
– Знаю, знаю, батюшка. Я не смела только сказать тебе… Я ведь ее знала. Я из одного двора с ней… Вот я тебе что скажу, – только ты не прогневайся: я ей, твоей маменьке-то, ручку даже раз вывихнула, ледешок ее перевернула с горы на маслянице. А она, родная, и ушиблась: «молчи, говорит, Мотря, ничего»; а какой ничего, – за костоправкой пришлось посылать!
Старуха долго еще рассказывала; Руднев угостил ее чаем, и на прощанье она уговорила его взять на память от сына хоть собачку, которую сын и принес тотчас же.
Руднев был растроган; взял собачку, поцаловал старуху, поцаловал сына, который испугался, когда он протянул руку, чтобы обнять его, и после до того обрадовался, что сказал: «Что ты это! что ты это?.. Не стоим мы того, чтобы ты нас цаловал-то, Василий Владимiрыч».
«Вот это жизнь моя! – думал Руднев, садясь в свою повозку с помощью своих новых друзей, – бедные, народ, книги! А я-то! на что решился… О, малодушие. О, низость! И все говорят: он ничего – он ничего, не глупый и не урод! О, гадость! Господи! Господи! Нет, ни Любаша не заслуживала осуждения, ни добрый Милькеев. Всякому своя дорога!» Решено, – он должен воротиться в свой тихий приют и бросить все свои занятия в Троицком. Иначе как еще победить сладкую привычку беседы с Любашей? Он не должен встречать ее. Но больница и средства делать пользу, но дети? Жалованье, которое уже вперед рассчитано на книги, на инструменты, лекарства для бедных, на помощь дяде!.. Отчего же он не может заниматься всем этим, понемногу отвыкая от нее… Слава Богу, теперь пост; все будут говеть в Троицком; веселья тоже кончатся, и жизнь пойдет опять тем ровным ходом, когда человек имеет время всмотреться во все подробности своего быта и своих трудов; книги уже не покроются опять пылью, не будет он искать всякий раз по четыре часа сряду, куда он положил четыре месяца тому назад сравнительную таблицу роста, долговечности и смертности; возобновятся одинокие прогулки в окрестных рощах; стоит только не поддаваться просьбам Милькеева и Катерины Николаевны.
Двое суток ездил Руднев по округу; на третий день, остановившись на почтовой станции, вспомнил он, что Чемоданово недалеко отсюда – всего три версты. С крыльца можно было видеть даже лесок их и пятно еловой аллеи в саду… Горько ему было взглянуть туда. В первую минуту, увидев эту аллею, он хотел взять почтовых лошадей в ту сторону, но скоро опомнился и уехал к себе…
Дядя сказал ему, что Милькеев был два раза: один раз поутру, тотчас после бала, а другой раз приезжал вечером и оставил какую-то записку.
– У вас что-нибудь да вышло, Вася? – сказал дядя… – Уж не косточка ли между вами?..
– Не знаю, ничего, – отвечал доктор и пробежал записку.
«Вы сердитесь? За что? Вы не говорите со мной, как дитя. Стыдно. Пожалуйста, поискреннее. Вы знаете, что мне быть с вами в ссоре больно! Верите ли?» «Верю или не верю? Верю, верю! – сказал себе Руднев, – что больно! Но каково мне! Его боль скоро заживет. У него столько друзей: Катерина Николавна, Маша, Nelly, Федя, Оля, Лихачев; она, наконец, она его любит… Он и не заметит этого несчастия между всеми заботами. А я уже побуду один… Мне так будет легче!» Тотчас же написал он записку к Катерине Николаевне с просьбой уволить его от уроков и умолял ее не приглашать к себе после визита в больницу. На другой день, скрепя сердце, поехал он осмотреть своих больных и как преступник робко вышел на крыльцо… Он так и ждал крику, нападения… «Вот, думал он, выскочит опять Милькеев». – Но все было тихо… Перед грустной душой мелькал задний двор, стая галок на крыше большого сарая, бор, избы, вдали – гора и церковь… В лицо пахнуло весной… Он сел в сани и, как бывало полтора года тому назад, поехал мимо сада. Дети играли уже там: раздался издали какой-то крик. Федя бросил вверх фуражку, но никто из них не побежал даже в его сторону…
Подъезжал он к своему крыльцу и видит вдруг – кучер водит двух оседланных лошадей… Одна, кажется, с дамским седлом… Кто такая – Боже!
Нет, не может быть, да нет!.. Ее смех в приемной…
Вот тоже знакомый голос говорит: «Это он приехал».
«Да, это он!» – отвечает Любаша. Она, она сама, сияя, встречает его в дверях – розовая, озябшая, веселая, в чорной амазонке и теплых перчатках. Она протягивает ему руку… За нею брат улыбается, за братом – дядя, тоже вне себя от радости кружится в углу туда и сюда… с табакеркой.
Они остались одни на минуту: – Папа опять болен, – говорила она, а сама так и хочет засмеяться. – Папа опять болен… Бок опять (и расхохоталась). Не умею я притворяться. Я приехала к вам потихоньку. Взяла брата. Папа здоров…
Руднев молча стоял перед нею.
– Что же вы молчите?.. А? Бабушка не позволила мне больше ездить в Троицкое: говорит, что вы и Милькеев совсем меня испортили. Ну, я не вижу вас – и скучно. Только вот что. Папа вовсе не болен; он желает вас видеть и послал брата верхом. Такая распутица (никто не видит; дайте мне вашу руку)… нельзя ни в каком экипаже… брат поехал верхом к вам; я выпросилась с ним к Полине, а дорогой и свернула с ним к вам.
Руднев все молчал и слушал.
– Что же вы молчите?
– Что я могу говорить? – отвечал Руднев, опуская голову и поднимая руки. – Что я могу говорить? Любовь Максимовна!..
И, ни слова не сказав ей, вышел в переднюю и закричал, чтобы оседлали Бурбона.
Филипп оседлал Бурбона, и всадники наши, съехав шагом в соседнюю вершину, на всех рысях пустились по дороге к Полине… Руднев дожидался один в роще, пока Любаша с братом доехали туда, и ждал недолго. Сережа приехал назад мигом, и они поехали в Чемоданово.
– Когда же Любовь Максимовна воротится? – решился спросить ободренный счастьем доктор.
– За ней после обеда пришлем кучера, – отвечал Сережа.
– А не будет поздно?
– Нет, Люба не труслива; доедет. Уж как, Василий Владимiрыч, бабушка сердилась!
– Да я ничего не понимаю! – сказал Руднев.
– Да ведь и я не знаю, за что. Уж расходилась старуха! кричала, кричала – и язвительная она у нас какая! Алексей Семеныч зовет ее: вампир, а я говорю – какой нам пир — скорей: не пир – бомбардировка! страх!
XIV
Дня два после троицкого вечера, часов около двенадцати утра, приехал князь Самбикин и, встретив в гостиной Любашу за книгой, спросил у нее, кто дал ей эту книгу.
– Милькеев, – сказала она.
– Вам он, кажется, вскружил голову… Я думаю, мы скоро будем опять танцевать, только здесь, по случаю вашей свадьбы, – начал забытый кирасир.
– Нет, – отвечала Любаша, даже не краснея, – Милькеев никогда не будет моим мужем.
– С вашей стороны, значит, несчастная любовь…
– Александр (Васильич), Александр (Васильич), вы ли это! – воскликнула Любаша, – за что вы мне говорите такие колкости? Милькеев, если бы и посватался за меня, – так я за него не пойду…
– Отчего?
– Как вам сказать… Я вам скажу откровенно: ведь с мужем нельзя только сидеть и разговаривать… С ним я бы разговаривала целый день… но только, чтобы он был мне не муж…
Князь молчал и не верил и верил.
– Любовь Максимовна, – продолжал он, немного погодя, – вы знаете, что я давно думаю об вас. Я давно хотел сказать вам решительно… Конечно, я не такой умный и не такой красноречивый человек, как ваш Милькеев, но я зато давно люблю вас…
– Александр (Васильич), – отвечала Любаша, – я помню, как мы с вами вместе играли, как вы меня пасли на лугу и заставляли есть сено из копны в саду… Все это я помню… Помню, как мы с вами качучу вместе танцовали. Жаль всего этого, да ведь не воротишь…
Любаша сначала говорила спокойно, потом заплакала.
– Оставьте это лучше, Александр <Васильич>… подите теперь к бабушке… Я ничего вам больше не скажу, ни слова… Подите к бабушке… Почему я плачу – не спрашивайте.
С этими словами Любаша ушла.
Князь был человек мирный и смирный; хороший служака, точный исполнитель, любим был начальством, ни разу не ссорился с товарищами; войны не любил и уехал с Кавказа, потому что боевая жизнь была слишком тяжела для него и понаслышке он называл ее варварством, прибавляя, что рано или поздно люди поймут, что это вздор, и будут решать все дипломатическим путем (Милькеев отвечал ему раз на это, что царство варваров он предпочитает республике стрикулистов); хотел даже навсегда бросить кирасирский полк и поступил, как мы знаем, в комиссариат; но мать, которая с ума сходила, когда видела его в латах и белом мундире, хотела, чтобы он вернулся в этот полк, и он, как смирный сын, повиновался; и в самом деле, в белом мундире и золотой каске он с своими большими, чорными и тихими глазами, с кирпичным румянцем на впалых и смуглых щеках, был вполне красавец.
Сколько раз сама Любаша любовалась им и говорила ему: – Ах! Александр <Васильич>, как вы, в самом деле, красивы! Смотрю я на вас и ни одного недостатка в вас не вижу!..
А он, бывало, покраснеет, улыбнется скромно!.. И вдруг!.. Князь вовсе не был горд и не считал себя аристократом против Милькеева; но теперь самолюбие и ревность взбесили его. Как! этот пройдоха, балагур и пустомеля; этот троицкий учитель! туда же носится верхом и через барьеры скачет – штафирка невыносимый… И она еще говорит, что он не будет ее мужем?.. Это вздор. Она лжет! Итак, прекрасная гостиная в помпейском вкусе; его кабинет, отделанный дубом и липой; его банановое дерево над письменным столом, на который не смеет сесть пылинка… Его дом в виде chalet. Все это должно задаром пропасть?..
В таких мыслях застала его бабушка; старуха вышла в этот день в гостиную и была в духе. Не заметив сначала, что князь грустен, тем более, что лицо его чаще всего выражало скуку или ровно ничего, она начала ему рассказывать, что Машка окотилась и опять заела одного котенка… Такая глупая кошка. Не могу расстаться с ней… а стоило бы ее утопить!.. Не могу: у нее такие милые глаза, когда она мяучит… и что за шерсть – тигр, настоящий тигр!.. Ну, что, как веселились вчера?
– Ничего, – отвечал князь.
– Что наша гордячка?
– Ничего – здорова…
– Уж и здорова стала! Удивляюсь! Что за баба – то с мужиками возится, то лежит, то балы дает… Удивительно! Ну-с… а в чем она сама была?
– В белом шолковом платье и с пунцовой камелией на голове…
– Ну, это довольно обыкновенно. Впрочем, к ее значительным чертам это должно идти… а Полина наша в чем?
– Полина – в малиновом тарлатановом с белым поясом, а в голову Катерина Николавна ей дала из зимнего сада две белые ammaryllis… Прекрасно!..
– Хороша, должно быть, была… Сколько же всех их танцевало?.. Две девочки – Маша и Оля, англичанка, Полина, Любаша… Варя – шесть пар всего.
– Нет, семь пар. Еще еврейка Дебора была… дочь винокура.
– Вот как! А в чем же это она была?
– В пестром бареже… Очень хорошенький бареж…
– Ишь ты, матушки! Ну, и та красива?
– Даже очень недурна.
Старуха вздохнула, покачала головой и усмехнулась.
– Потеха! – сказала она, – нашей сестре-старухе только и остается, что хохотать в углу… Жаль, что я поленилась, не поехала… Да весело ли было, по крайней мере?
– Так себе, – отвечал князь.
– Вы что-то не по себе… и бледны, дружок, сегодня!..
Князь не отвечал и, опустив глаза, поиграл пальцем по столу.
– Что с вами?..
– Я уж больше не буду ездить к вам, Авдотья Андревна.
– Как, что вы, что вы!..
– Признаюсь вам, я сделал сегодня предложение Любовь Максимовне… и она наотрез отказала мне.
Старуха помолчала, внимательно посмотрела на князя; лицо ее покрылось багровыми пятнами; она сбросила с колен кошку и встала.
– Что-с? – сказала она, и светлые глаза ее так блестели, по лицу разлилось столько злобы, что князь испугался.
– Да, – сказал он робко. – Любовь Максимовна отказала мне…
Авдотья Андреевна помолчала еще, встала, вышла вон и кликнула Любашу.
Князь, между тем, сконфуженный и огорченный, предугадывая семейную сцену и жалея Любашу, удалился поскорее, сел в сани и уехал. Любаша вошла.
– Что это значит, – сказала старуха, бледнея и краснея, – что у вас было с князем? Отчего ты отказала ему? Отчего? Что такое это значит… ты с ним по беседкам сиживала! Нехорош он? Красавец!.. князь, богат, добр, смирен… Чего тебе еще нужно?.. А! чего тебе еще нужно? Разве я век тебя буду кормить, – тебя и твоего безумного отца?..
– Я, бабушка, не хотела вас огорчить. Я думала, вам все равно, пойду я за князя или нет…
– Нет, это штуки! штуки… Ты повадилась с этой распутной бабой… с графиней водиться… Что она тебе за пример?.. У тебя там что-то в Троицком шашни завелись. У тебя есть страстишка там…
– У меня, бабушка, нет страстишки ни к кому.
– Ишь! Неколка упрямая!.. Отец, две капли отец… Ты лучше мне скажи – скажи прямо, кто твой предмет. Уж не Милькеев ли ваш кумир… О! матушка, выходи, выходи за него. Знай только, что не видать тебе от меня ни крошки на приданое, если ты выйдешь за кого-нибудь другого, кроме князя.
Любаша молчала, и старуха утихла.
– Позвольте же спросить, – продолжала она, приняв опять свой хитрый и спокойный вид, – кто сей предмет… Милькеев или Руднев?.. Верно, Милькеев!..
– Бабушка, – отвечала Любаша, – мне ни Милькеев, ни Руднев, ни князь и никто не нужен. Князь мне нравился прежде, только теперь я уж не об нем думаю.
Помолчала еще Авдотья Андреевна с минуту, села и взяла даже опять на руки Машку, которая давно мяукала из-под стола, глядя на нее.
– Как знаете, Любовь Максимовна, – заключила она. – У вас есть отец; а я вам бабка… больше ничего. Но знайте, что я вам не помошница, если вы выйдете за Милькеева или за Руднева; да и в дом вас с женихом вашим не пущу… Да, постойте, забыла… Ваши поездки в Троицкое кончены… Сейчас напишу Полине, чтобы она вас туда не возила.
Любаша, оставшись одна, думала недолго; она пошла к отцу и рассказала ему все – Сегодня князь сватался? – спросил отец.
– Сегодня. Что мне делать?
– Что ж! прежде никак хотела за него, а теперь уж расхотела.
– Что ж делать! Кабы другой мне не нравился, я бы за него с удовольствием пошла.
– Кто ж тебе нравится?
– Сама не знаю; и князя жалко, и все это так противно!..
– Да ты мне скажи толком, Руднев тебе по душе, что ли, или нет?
– По душе.
– Так пошли Сергея за ним… я с ним поговорю – вот и все… Эка невидаль.
Максим Петрович лежал на диване, когда Сережа ввел к нему Руднева.
– А! медик! – сказал будто сухо старик, протягивая ему руку. – Устали?..
– Нет, ничего, Максим Петрович. – А ваше здоровье как?
– Мое здоровье?.. Да что вам сказать! – Сережа! тебя тут спрашивали?.. Пошел к чорту, болван. Убирайся к шуту, – спокойно и с благодушным выражением лица сказал старик. В глазах его видна была даже ласка.
Сережа ушел не торопясь и вовсе не обиженный.
– Как вы находите, умен Сережка этот или глуп? – спросил отец.
– Он напустил на себя что-то, – отвечал Руднев.
– Вы находите… Да вы совсем не о том думаете, я вижу… Глаза у вас бродят… туда-сюда…
– Нет, нет… Я слушаю… Я говорю, ваш сын что-то напустил на себя… Небрежность, что ли, неуместную…
или просто скучает… А что же, Максим Петрович, ваш бок?
– Да что бок… Все хлопочу о том, как бы без мушки обойтись…
– А сильно болит?..
– Да, болит-таки! А вы вот послушайте… Вот… Ну, что там есть?..
– Позвольте, позвольте – вы помолчите… Дышите только…
– Ну, ну… дышу…
Старик покачал головой и радовался, думая, что Руднев будет уверять, что слышит шум или свист, когда у него вовсе и не болит бок.
Однако Руднев не нашел, разумеется, ничего и сказал: «Должно быть, это – наружная простуда… и просто вы потритесь чем-нибудь… или горчишник», – прибавил он, думая, согласится ли старик терпеть его задаром или нет…
– Хорошо, я ужо поставлю горчишник.
– Впрочем, зачем же?
– Нет, нет, поставлю ужо… Сергей, а Сергей, вели приготовить горчишник. Да небось озябли, выпьем пуншу?.. Пуншу, Сергей… Али уж Любашу подождать… Она лучше делает чай. Подождать Любашу, Сергей. Слышишь, слышишь?
– Ну, слышу… слышу… Что пристали…
– Болван!
Выгнав сына, старик опять обратился к своему любимцу и, проницательно вглядываясь в его лицо, спросил: – Дядюшка-то ваш здоров?
– Здоров… благодарю.
– Не в благодарности дело. Я серьезно спрашиваю: каково вообще его здоровье… Постоянно ли он здоров или болеет когда? Я давным-давно его не видал… Э-э! еще когда! Когда жена-покойница была жива… Он всегда хилый был, а ведь препочтенный человек… и пребедовый делец. Много постарел?
– Не скажу… Кажется, у дяди такая наружность, что и в молодости не молод и в старости не стар.
– Не ослабел?
– Незаметно.
Максим Петрович еще помолчал, прошелся по комнате; повздыхал, побарабанил в окно, еще повздыхал, сел и вдруг так глубоко задумался, что Рудневу стало тяжело на него смотреть, и он вышел вон… Перешагнув за бездну порога, Руднев от людей узнал, что Авдотья Андреевна ушла с Анной Михайловной ко всенощной; что Сережа тоже куда-то пропал, а Богоявленский еще утром уехал к Шемахаевым.
Но мысль его не могла долго останавливаться ни на Богоявленском, ни на Максиме Петровиче, ни на Сереже. Глаза его не могли оторваться от окна и от грязного снега той дороги, которая, загибаясь за церковь, вела к Полине. Что чернеется, что белеется – все высматривал, все ждал с тревогой, но эта тревога казалась ему блаженством после той тревоги, которую он только что перенес.
Наконец всадница выехала шагом из-за церкви, въехала и на двор… И что за счастье, что за невыразимая радость: старухи у всенощной, Сережи нет, Богоявленского тоже нет… Максим Петрович только… Недолго, однако, и это его тревожило. Любаша тотчас же сбегала к отцу, воротилась и сказала, указывая на часы: – На два часа мы одни, на два часа… Пойдемте на нашу ель смотреть…
– Вы будете амазонку еще снимать? – сказал с горестью Руднев.
– Очень нужно. А пуговицы на что? Помогите их кругом пристегнуть…
Устроили все: пуговицы пристегнули; положили развернутую книжку на окне – на всякий случай… и сели. Ель была на месте; только уже не в снегу или инее, как зимой, а кой-где бурая подсохлая, кой-где зеленее зимнего.
– Я все это так только баловалась; а люблю-то я вас, – сказала Любаша.
Руднев взял ее руки и, припавши к ним, умолял ее не играть его чувствами, не обмануть его, не измениться! Они просидели вдвоем больше часу, разговаривая и молча, и мучаясь страхом, чтобы им не помешали.
Наконец пришел Максим Петрович и позвал Руднева к себе. Старик был смущен.
– Вы – хороший доктор, – сказал он, – я вас давича хотел обмануть; а вы сейчас узнали, что у меня внутри ничего нет. У вас будут деньги! Вы говорили с Любашей?
– Говорил, Максим Петрович.
– О! Боже, Боже! – прошептал старик и прошелся, опустив глаза в землю, несколько раз по комнате.
Потом постоял перед Рудневым, посмотрел на него и сказал: – Матушка Авдотья Андревна – женщина крутая… Она умная, способная старуха, да княгиню очень любит… Смолоду дружны. Княгиня и так, и сяк… И женила бы сына, и нет! А матушка уж из одного того, чтоб ее не огорчить, не пойдет против нее… И то сказать – княгиня раз, как у нас неурожай был, сто четвертей хлеба прислала; вот хвалят все Любу, что она одевается хорошо… а ведь это княгиня ее выучила: сама сколько ей шила и кроила. Ну, и матушка ей была не без пользы! Ротозей-то, соня, соперник ваш, еще в корпусе был, а у княгини люди забушевали, не слушаются; той где справиться! Истерика! Вот матушка приехала к ней; да кого сама за загривок, а кого на конюшне обработала без станового! Баба лихая! Теперь еще случаи были… Та ни леса не сумеет продать, ни сделки никакой сама сделать, а матушка со всяким гуртовщиком или с торгашом простым будет чай пить… Попьет-попьет и устроит все – и для себя, и для княгини… Видите сами, пойдет ли матушка против нее?.. А коли сын решился – значит, мать позволила и заодно с ним… У меня, милый мой, гроша нет… Приданое Любе – бабушка даст… Надо молчать и ждать, и практику заводить… Понемножку-понемножку попадем мы на дорожку! Да-с, сударь мой! Терпи казак! а уж мы с Любой – подождем, потерпим, я за это ручаюсь; а пока отправляйтесь-ка домой, пока не заметили ничего! Вы куда теперь – в Троицкое или в Деревягино?
– Нет, мне еще в округе дело есть, я не раньше недели вернусь домой.
– Ну, с Богом! Да, постойте! Милькеев-то приударял за Любой или нет? Она говорит – да…
– Как вам сказать, право, не знаю!.. Он – человек, впрочем, очень благородный.
– Чорт ли мне в его благородстве! – сказал старик, – не мудреное благородство, коли она любит не его, а вас. Я разве боюсь его, что ли?! Я рад только, что он на бобах будет.
– За что вы его не любите? Я давно это замечаю, – спросил с удивлением Руднев.
– Не люблю, вот и баста! А ну, отправляйтесь-ка подобру-поздорову…
Прощаясь, старик обнял Руднева и подставил ему для поцалуя свою розовую щоку и белую бороду.
Авдотья Андреевна вернулась из церкви и узнала от людей, что Руднев был тут и долго сидел в темноте с Любашей. Она тотчас же пришла к сыну и сказала ему: – Коли у тебя есть чем дочь снарядить и не жаль тебе, что она за прохвостом замужем будет., отдай хоть сейчас… Я ваши шашни вижу. Отдай ее не только за Руднева, пожалуй, хоть за Филатку-кучера… Только ни ты, ни она, ни женишок от меня тряпки старой не увидят, и Рудневу дверь моя заперта отныне! Имеющие уши – да слышат!
– Чего вы, чего вы, матушка! – отвечал Максим Петрович, – спросите хоть у Любы самой; Руднев ей ни слова не говорил любовного; а вот Милькеев – другое дело: этот точно волочится… Да спросите у Анны Михайловны, она на вечере разве не была?
Анна Михайловна сказала, что это правда, что Милькеев весь вечер был с Любашей, а тот только одну кадриль танцовал.
– Не разберешь их, Ашенька! – сказала Авдотья Андревна дочери, оставшись с нею одна. – Не беспокоить же мне княгинюшку из-за этих прощалыг… И князь такой милый, такой приятный человек… Что сталось с нашей девчонкой – непостижимо! Во всяком случае, вели Иринашке, чтобы когда Руднев или Милькеев приедут, для обоих нас нет дома…
– Особенно Милькеев, особенно Милькеев! это – такая звезда! – воскликнула Анна Михайловна, – я сама видела, как он Лихачеву на меня головой кивал. Так наглостью и пышет, так и пышет… А что он такое? Ничего, просто ничего!
– Бог с ними, Бог с ними! Лишь бы не ездили, да чтобы семинарист наш какие-нибудь записочки не стал бы передавать… Где он?
– Повадился к Варваре Ильинишне, к ней все льнет! – донесла Анна Михайловна.
– Час от часу не легче! – засмеявшись сказала старуха, – одну внуку за лекаря-мещанина отдать, а другую – за кутейника чахлого! Ну, да эта как знает; я люблю княгинюшку и князя моего милого; и кабы не они, я бы померла со смеху, глядя на людей. Без дураков да без глупостей – на свете тоска бы была смертная. Не правда ли, Аша?
– Oui, maman! хи, хи, хи! Правда, правда! Вы всегда правду говорите! Потеха, потеха! А я сейчас же побегу сказать Иринашке, чтобы не принимали ни Милькеева, ни Руднева. Сейчас же, сейчас!







