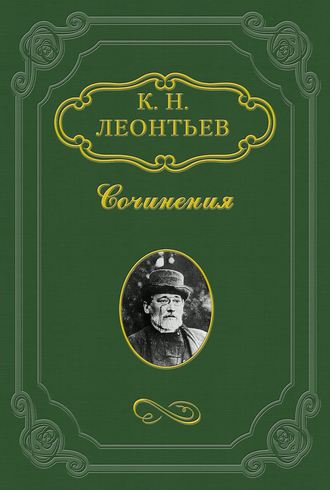
Константин Николаевич Леонтьев
В своем краю
XXV
– Едет, едет наш Вася далеко! – говорили дети. Куда, – они не знали!
Огромная туча двигалась с востока и заняла уже половину неба; по широкой маркизе пробегал трепет, и в темном саду видно было только светлое платье Маши, которая запирала фонтаны перед бурной ночью.
Слабыми шагами спустился Милькеев с балкона в сад; Маша увидала его издали, подошла к нему и, обняв его, сказала: – Ах! Вася, Вася… Зачем это не придумали тебе лучше имени… Что это за злой Василиск… Я бы желала тебя иначе назвать… Как бы?.. не знаешь ли, Вася, – я уж не чувствую ничего, когда я тебя назову просто Вася. Придумай нам на прощанье…
Наверху террасы нашли они мать, которая позволила Маше еще погулять в саду одной, без других детей и присмотра.
Милькеев сел около Катерины Николаевны и взял ее руку.
– Ну, что, как вы себя чувствуете? – спросил он, – не холодно вам в этой мантилье?.. Подушку вам принести?
– Нет, – отвечала она, – это все вздор… А то вы не раздумали?..
– Нет!
– Скажите, что это вас все подбивает на какую-нибудь штуку? Для чего это вы…
Милькеев не отвечал, но поднес ее руку к губам и поцаловал эту руку с благоговением сына и нежностью брата.
– Поздно, поздно я вас встретил! – отвечал он ей, – лучше бы раньше!..
– Отчего вы не хотите раздумать, – продолжала она, – вы любите свободу, жалеете народ, – вы добры и смелы… Крестьяне скоро будут вольные, будут новые должности… Я ведь могу много для вас здесь сделать. Да это и не для вас, а для других! ведь вы могли бы сколько пользы здесь сделать, сколько добра. Сколько здесь нужно будет добродушия и терпенья с крестьянами, а с помещиками занадобится справедливость, дар слова и либеральность. Ведь это все нашлось бы у вас? Николай Лихачев вас уважает, друзья вам здесь все… Подумайте-ка… Что это будет? Борьбы вы не боитесь, вы хотите ее… Свекуйте у нас!..
В это время из-за кустов опять показалась белая тень Маши, и Катерина Николаевна загляделась на нее… Помолчав с минуту, она опять обратилась к нему: – Видите вы, кто там в саду?..
– Вижу…
– Вот вам. Вы сказали, что меня вы встретили поздно… и это жаль… Вот она подрастет для вас, если хотите… Милый мой! останьтесь… прошу вас… Ведь вы понимаете ли, что за отрада была бы мне видеть вас и богатым, и счастливым и доставить вам известность здесь, имя громкое на весь округ, если не на всю Россию. Друг мой! останьтесь… Видите, я плачу об вас, Вася; вы мой, мой уж стали. Я ни с кем так не была, как с вами… И разве моя Маша плоха?.. Разве она не симпатична?.. И какая бы мне радость была, если бы я могла сказать: «вот какого мужа я достала своей фаворитке». Ведь она не бедная; она не стеснит вас. А люди, люди-то как бы вас любили…
Последний фонтан вдруг замолк вдали; Маша закрыла его; дождь начинал уже капать крупными каплями; небесная, задумчивая отроковица взошла на террасу, села около своего друга, нежно припала к нему и положила ему на плечо свою головку, и душистую, и свежую от дождя.
Все они трое молчали долго; он держал руку матери одной рукой, другой рукой обнимал Машу. Когда Маша ушла, Катерина Николаевна спросила: обдумал ли он и останется ли?
– Нет, не останусь, – отвечал он, – разве я не знаю, какие это будут и важные и почтенные должности и сколько чести быть таким судьей… Да вот, как бы вам это сказать, постойте, – вот вы теперь любите раскладывать гран-пасьянс?
– Опять сравнение! Оставьте это…
– Постойте! Любите? А ведь смолоду, верно, не любили. Так позвольте же и мне теперь поиграть в штосе, хоть это, может быть, и не так честно. А уж для гранпасьянса время найдется и после! А вот, что вы сказали про Машу – это хорошо, только ведь я стар для нее. Вы родились рано, она – слишком поздно!
– Это уж ваше и ее дело… Я говорю, что я готова и это, я бы не побоялась этого и хоть семнадцати лет за вас ее отдам, – другому нет, рано не отдам. А там что будет! Ах! что будет, мы не знаем!..
Она давно уже слышала капли слез, которыми обливал ее руку благодарный избранник ее дружбы. Когда этот долгий источник долго сдерживаемых слез иссяк, она по – цаловала его кудри и оставила его одного на террасе, в которую уже давно бил проливной дождь.
XXVI
Несколько недель после отъезда Милькеева в Троицком все чувствовали большую пустоту; увеселения не ладились уж так, как прежде. «Без Васи плохо идет дело», – говорили дети. «Да! все как-то не то», – отвечала мать. – «Oh! Quant а ca, il était bien amusant, – говорил Баумгартен, – только я бы не желал иметь такую репутацию…» – «Это не помешает ему быть и в серьезном выше скучных людей», – возразила Nelly.
Менее всех чувствовал его отсутствие Руднев; он был занят и князем и Любашей. Князь уже поправлялся и гулял; старая княгиня сама водила его под руку и каталась с ним в коляске. Руднева она до такой степени полюбила за это время, что не иначе звала его, как «мой второй сын», «мой блондин» – в контраст князю, который был «мой брюнет». Руднева, который от души жалел княгиню, но не мог никак заставить себя любить ее, иногда это мучило и на сентиментальные слова старухи отвечал молчанием.
Однажды князь поехал с матерью прокатиться к своему «chalet»; осторожно и с роздыхами вошли они на горку и сели под дубками на скамье.
– Доктор говорит, – начал князь, – что мне надо ехать в Ниццу, матушка… пережить эту зиму в тепле. Не продать ли мне этот дом, и со всем местом – с лесом и службами… Не купят ли Лихачевы, – они все хвалят… Мать помолчала.
– Что ж, мой голубчик, – сказала она, подумавши, – если доктор говорит, надо ехать… Только дом…
И, не кончив слов своих, она заплакала.
– Так я без тебя и умру… – сказала она наконец.
– Вы, матушка, молоды еще, не стары. Посмотрите на Авдотью Андревну!.. Увидимся! – отвечал дрожащим голосом сын…
– Ничего, ничего, – прошептала княгиня, – это нервы!
Она продолжала плакать, а князь не старался ее утешать пустыми фразами.
Они осмотрели дом, полюбовались на кабинет; развернули дорогие обои с прекрасными изображениями лесов и охоты, которыми он хотел отделать угловую, и сели опять в коляску.
– Зачем ты взял с собою эти обои? – спросила мать.
– Хочу Рудневу подарить. На что они нам? Некому ведь здесь будет жить…
– А! Рудневу… Ну, хорошо. Я бы не только обои, я бы себя ему, кажется, теперь подарила… Поверишь ли, Alexandre, я вся дрожу, когда он входит!..
– Знаете ли что, матушка… Знаете, что бы я вам посоветывал насчет Руднева?
– Что же, Alexandre? говори, голубчик…
– Да! знаете что… Я ведь, вы знаете… теперь я не думаю о том, что было… Мне нужен покой… Я уеду… Вы бы с Авдотьей Андревной поговорили…
– Насчет чего?
– Насчет денег.
– Насчет каких денег?
– Ну, да как же вы не догадаетесь!.. Конечно, я еду; мне, может быть, и больно было… Да ведь кто же знал.
– А! насчет этой негодницы! Подлая девчонка! Пожалуйста, не говори ты об ней… У меня вся внутренность перевертывается. Я бы ее в угол затолкала да била бы головой об стену… И что в ней находят! Кормилица, ражая русская девка, по-французски двух слов связать не умеет!..
– Не сердитесь, maman, – сказал князь, цалуя ее руку. – Тем лучше, что это так вышло… Мне она самому так опротивела через все эти страдания, что я вам пересказать не могу. И Бог с ней… А Руднева мы можем сделать счастливым… Полина говорит, что Авдотья Андревна даст приданое за ней если вы попросите…
– А какое мне дело в это мешаться! – отвечала княгиня сердито. – Что я им за сваха! Que tous ces diables et diablesses crèvent, je m'en soucie fort peu!
Осторожный князь не продолжал в этот раз разговора, боясь рассердить мать и еще более опасаясь расстроить себя. – Но возобновлял потом внушения не раз, и такая любящая мать не могла не уступить.
– А что ты думаешь, chère amie, о Рудневе? – спросила княгиня Авдотью Андреевну.
– Милый и солидный молодой человек! – отвечала с тонкостью Авдотья Андреевна, – Отчего ты, chère amie, не отдаешь за него твою внучку? (Княгиня после поединка сына с Милькеевым никогда не называла ее Любашей.) – Да разве он сватался за нее? – с притворным удивлением спросила Авдотья Андреевна.
– Говорят все, что они влюблены друг в друга! Ты разве этого не знаешь? Твой юродивый при всех это объявил.
– Ну, что же значит, ma chère, его слово! Кто его слушает! Ведь князю теперь гораздо лучше…
– Кому это, сыну моему? – вспыхнув, спросила княгиня. – Сын мой едет в Ниццу, и я с ним поеду, может быть; мы даже chalet свой продаем… После этой несчастной истории нам здесь слишком тяжело… Вернемся, когда все позабудем немного… К тому же, сыну моему, согласитесь, не к лицу быть несчастным искателем невест!
– Дружок-княгиня, за что же ты рассердилась? – сказала ласково Авдотья Андреевна, – ты меня не поняла; я говорю: если князю Александру Васильичу лучше, так что он может уже ехать за границу, так тебе бояться нечего старой истории…
– Какой это старой истории?..
– Дружок-княгиня, пожалуйста, не сердись: Александр Васильич влюблен был в Любу, Люба тоже. Не поверю я, чтобы она могла предпочесть Руднева Александру Васильичу. Но я понимаю, княгиня-голубчик, как тебе было бы больно, если бы это опять все возобновилось. Люба тебе опротивела… после этого… Я понимаю это. Так о чем же ты хлопочешь за Руднева?
– Авдотья Андревна, Авдотья Андревна! Отчего ты меня такой интриганткой и эгоисткой считаешь, что я только для себя и хлопотать буду, – чтобы всякий соблазн от сына отдалить… Я знаю, что Руднев твою внучку любит, и она его. Пошли за ней, спроси у нее…
– Не забудь, княгиня, что он не дворянин…
– Ну, что говорить о дворянстве, когда у нас главное отнимают… Чем я теперь от своей вольноотпущенной мещанки отличаюсь?.. Пообразованнее немного? Да и земля-то у старого Руднева вся на имя племянника переведется, как только отпустят на волю этих зверей – мужиков…
– Я подумаю, – сказала Авдотья Андреевна.
К вечеру все было кончено. Авдотья Андреевна давно уже думала о Рудневе и очень хорошо видела, что все: Полина, Максим Петрович, Платон Михайлович, сама Любаша и даже Сережа желали этого брака; Анна Михайловна ничего не имела против него. Авдотья Андреевна все еще ждала, что князь поправится и опять посватается, а Любаша образумится и уступит с радостью. К тому же Любаша так часто плакала вначале о князе, так беспокоилась об его здоровье, что легко было всякому понадеяться.
Но Любаша плакала от одной жалости и муки, что она причиною всему; а изменить Рудневу не подумала ни на миг.
Авдотья Андреевна вошла вдруг в столовую во время чая и сказала: – Ну-с, господа! Честь имею объявить, что я за Любовь Максимовной даю семь тысяч приданого. Максим Петрович, что ты на это скажешь?
– Я, матушка, что скажу?
– Да, ты что скажешь…
– А что я вам скажу? Умнеете вы день ото дня к старости – вот что я вам скажу…
– Седой дуралей! – весело сказала старуха… – Ашенька, дай ему подзатыльника…
Анна Михайловна, разумеется, не осмелилась пошутить с братом, а Максим Петрович встал и пошел в свою комнату.
– Сергей! – закричал он, уходя, – принеси чернил свежих; у меня яко кладезь в пустыне!
– Благодари, Любаша, княгиню, что твое желание исполнилось, – сказала старуха.
Любаша хотела подойти к руке княгини, но оскорбленная мать отодвинулась от нее и, сценически отстраняя ее рукой, сказала: – Об одном прошу, Любовь Максимовна, не прикасайтесь, не прикасайтесь ко мне… И не думайте, что я для вас что-нибудь захочу сделать… Я, конечно, сделала это для Василия Владимірыча, которого вы не стоите… Прочь, прочь, ради Бога! вы все в крови… Бесстыдница!..
Княгиня побагровела и велела, задыхаясь, подать свой экипаж. Авдотья Андреевна не уговаривала ее остаться, зная, что вспышка эта сама собой утихнет дорогой, и княгиня будет ей опять друг. Трудно и было им удаляться друг от друга: только друг с другом и с Анной Михайловной чувствовали они себя дома между всем этим новым и чужим народом.
На следующее утро Руднев получил от Максима Петровича записку: «Радуйся и веселися, угодниче дамский Василье! Радуйся бессеребрениче! Любовь твоя увенчана, и моя Любовь с тобой скоро будет обвенчана. Дамы устроили все! Дамы, как ты знаешь, цветы, и требуют ухода; ты им потрафил еси; сыночек мой будущий и прошедший мой докторище!
Старичку Рудневу чемодановский старичище шлет низкий поклон».
Свадьба была отложена до июля, когда князь с матерью уедет в Ниццу. Прощаясь с Рудневым, Самбикин развернул перед ним полосу обоев с кабаньей травлей и предложил оклеить ими столовую в новом доме, который уже строился в Деревягине.
– У вас домик будет маленький, так я вам советую оклеить угловую с видом на нашу Пьяну; в ней вы можете и обедать, и потанцовать иногда. И сделайте готические окна… с разноцветными стеклами. Вам по размеру уже нельзя иметь правильного распределения комнат; так пускай это будет этакая fantaisie… Впрочем, вы сами лучше знаете…
– Напротив, Александр Васильич, – сказал Руднев, – у вас так много вкусу…
– Да мало счастья! – отвечал, качая головой, бедный князь.
– Славная будет горенка! – прибавил он, любуясь на разостланную картину и вдруг, вспомнив о той утренней охоте, после бала, на которой в первый раз зашевелилась ошибочная ревность в его душе, подумал: «пусть и она вспоминает иногда, глядя на эти обои!» «Пусть вспоминает иногда!» – подумал и Руднев, принимая обои.
Довольно щедро одарив доктора, княгиня уехала с своим любимцем в Италию, а в Троицком отпраздновали свадьбу тихую и малолюдную.
Не раз многим вздохнулось, что Лихачев и Милькеев далеко; не раз и громко об них потужили; но молодые были тихи и счастливы, и всем было не то, чтобы весело, а сладко на них смотреть. Катерина Николаевна заплакала, обнимая их, и думала: «О! если бы на месте его был тот, а на ее месте – моя Маша! Что за восторг! Что за радость была бы тогда! Да, быть может, успокоится опять он в Италии и вернется к нам!» – Еще до свадьбы она предложила новобрачным весь нижний этаж своего дома, пока достроится их домик, но они желали быть одни и уехали вдвоем верхом в Деревягино. (Любаша, не снимая белого кисейного платья, в котором венчалась, надела на него только юбку от амазонки.) Никто не провожал их… Родные Любаши все вернулись в Чемоданово; вечер был жаркий и грозный; дождь еще не шел, но молнии сверкали, и молодые доехали рука-в-руку рядом и не говоря ни слова.
XXVII
Через два дня после свадьбы за Рудневым прислал лошадей Сарданапал. Варя была больна. Едва только узнала она, что Лихачев уезжает за границу с Милькеевым, тотчас же приехала к нему, плакала и жаловалась, потом утихла и сказала: – Нет, нет! поезжай! Слава Богу! мне без тебя просторнее будет… И Алексея Семеныча увезите, мне лучше так, я отдохну!
– Выйдешь замуж, – сказал Лихачев, – приданое у тебя хорошее для деревенской жизни… Женихи найдутся.
– Выйду, выйду, – отвечала Варя задумчиво, – только ты уж, пожалуйста, не упрекай себя. Через тебя я пожила! Эх! помнишь, как мы с тобой ночью в роще гуляли под Духов день!.. Ландышей, ландышей сколько было! Без этого что бы я была? Вышла бы замуж дура-дурой. Нарожала бы дюжины две детей – без толку… Этакая скука и гадость!..
Они обнялись и простились дружески, и Варя ушла пешком. Весенняя грязь еще стояла кой-где по вершинкам; дул холодный ветер; в поле не было никого. Варя разулась и долго ходила по лужам, распевая песни. Она думала, что завтра сляжет, но сухой кашель ее только усилился, поболела опять грудь – и только… Что делать! Несколько раз еще мочила она ноги, лежала на росе, садилась после прогулки или верховой езды на сквозной ветер и к июню насилу добилась того, чего желала – начала кашлять кровью, слабеть… И с этой слабостью, с этим кашлем вернулась надежда и проснулся страх. Она призналась Рудневу, что сама виновата, говорила себе: «ведь он вернется! Побыв в чужом краю, дома все опять ему будет ново и хорошо… Не теперь, так позднее, быть может, опять скажет: «Варя, мне с тобой никогда не скучно!» Но Руднев видел, что надежды нет! Она уже ходила плохо; зябла и горела под вечер, хотя все еще бодрилась и говорила ему: «Никогда не поверю, что у меня в самом деле чахотка! Слишком нежно, интересно уж! Совсем ко мне нейдет!» Комнаты братниного дома и сам брат стали ей ненавистны, и Катерина Николаевна перевезла ее к себе. Здесь Варя дожила последний месяц в тоскливом покое, доходившем иногда до блаженства. С утра выносили ей кресло на садовую террасу и ставили около нее чай. Иногда по два, по три часа сидела она одна и смотрела в сад. Вдали Катерина Николаевна играла на рояле; с другой стороны слышны были голоса детей из классной; фонтаны торжественно шумели, и сквозь деревья парка блистала река; по скошенным лугам за Пьяной чернелись телеги и люди. Варя уже ничего не желала, ничего не ждала… Слушала, смотрела, думала о том, как перед террасой идут в цветнике цветы: сперва полоса каких-то белых больших колокольчиков извивается, а за ней красные мелкие цветы. Вот, вот куда пошли!
– Хорошо вам, доктор, на свете жить? – спрашивала она Руднева.
– Недурно.
– Любаша вас как цалует?
– Как? обыкновенно, как…
– Куда! я хотела сказать…
– Что за вопрос!..
– Везде, я думаю – вы недурны, – замечала Варя, рассматривая его лицо, и прибавила, – хорошо видеть счастливых!
– Хорошо тебе, Федя, на свете жить? – спрашивала она в другой раз.
– Не так-то, Варвара Ильинишна! Глаголы французские одолели, да еще вот Стрелка больна… Боюсь я за нее; лошадка славная! А вам, Варвара Ильинишна, хорошо?
– Здесь хорошо! – отвечала Варя.
Тот же вопрос делала она и другим детям, и Nelly, и самой Новосильской.
– Тоскуете вы об Милькееве? – спросила она вдруг Nelly, когда та сказала ей, что часто грустит.
Nelly смутилась немного и отвечала: – Я тосковала и при нем.
Глаза Вари засверкали на миг, и она сказала помолчав: – Неужто! вот как! Впрочем, вас не поймешь, вы все изворотами говорите! А по-моему, он хоть и видный был, да не вкусный…
Варя для этой мысли не нашла французского выражения, но Nelly понимала русское слово «вкусный» и удивилась, как можно так говорить про мужчину.
– Вы сами то же думаете, не говорите только. Все это думают, – сказала Варя.
– О! нет, – отвечала Nelly, – Лихачев наружностью мне больше нравился… Но без Милькеева как будто скучнее все.
– Нравился вам Лихачев? Нравился? – спросила Варя.
– Иногда, – сказала Nelly с испугом, думая, что растревожила ее.
– Ничего, это хорошо!.. Дай вам Бог!.. Дай вам Бог… – воскликнула Варя и заплакала.
Скоро она уже и плакать, и говорить перестала, даже кашляла мало, а лежала прозрачная и немая на кровати.
В полдень ее выносили на складной кровати в сад под липы. Катерина Николаевна сама обмахивала ей мух и служила ей.
– Добрая ты, добрая! – прошептала ей раз Варя, – сшей ты мне сарафан красный, и кисейные рукава, и платок парчовый купи… пусть лежат около меня тут… Я буду на них смотреть. И похорони меня в этом… Хоть в гробу буду покрасивее… Я была на Святках наряженная так – он меня и полюбил… А когда приедет без меня, скажите ему все от меня, пусть не жалеет и пусть ее возьмет… Тихая она такая, умная!.. Все ему скажите так, голубчики мои! Как у вас умирать хорошо здесь!..
Катерина Николаевна сшила и купила ей все, что она просила, и через две недели ее похоронили в Троицком, недалеко от матери Руднева.
Баумгартен написал ей эпитафию:
La feuille verte et pleine encore de sève
Pôlit, frissonne et tombe au gré des vents;
Tout passe ainsi, tout passe comme un rêve,
Comme un soupir, comme un désir brulant!
Ah! priez Dieu qu'il vous donne en grâce
Que vos beaux jours ne disparaissent pas,
Ainsi qu'un songe et sans laisser de trace,
Priez le Dieu qui veille sur vos pas!
В стихах этих все нашли больше чувства, чем можно было ожидать от Баумгартена; но высечь французскую эпитафию на русском кладбище показалось Новосильской неловким, и Nelly утешила доброго француза тем, что списала эти стихи себе в альбом.
XXVIII
А слухов все еще не было от волонтеров. Только в августе получил предводитель от брата письмо из Тифлиса, в котором Лихачев писал: «И мы не без патриотизма! Как ни хотелось ехать в Италию, но сами отказались. Набралось нас, молодых людей, человек до двадцати: пять поляков; один отставной артиллерист; два гусара отставных; один грек какой-то; остальные Бог знает кто. Все Милькеев через этого грека вербовал, да грек похвалился перед своей сестрой, та матери передала, а мать довела куда следует, и дело расстроилось. Богоявленскому не на что было ехать одному, потому что он весь тот капитал, который в Чемоданове скопил невозможными средствами, издержал в дороге, из гордости не желая обязываться нам. Однако пришлось ему, хочешь не хочешь, ехать на счет Милькеева в Петербург. Милькеев, сколько я его ни уговаривал к нам вернуться, твердил одно: «Разогретое кушанье не годится! Я у вас отслужил свою службу!» Он и бледный отрицатель отправились с своими тенденциями в Петербург, а я решился проездить деньги на Кавказе и надеюсь быть в сентябре домой».
Предводитель привез это письмо в Троицкое; все были рады, что Лихачев скоро вернется, но Катерина Николаевна боялась сообщества Милькеева с Богоявленским.
– Я боюсь, – сказала она, – чтобы он куда-нибудь не увлекся еще!.. Что это за несчастное свойство – портить себе жизнь. Оно высоко, может быть, я понимаю, да все-таки страшно мне-то за него!
– Всякое честное направление, не выходящее за пределы национальности, нужно! – возразил предводитель.
– Не знаю, честно ли это – все ставить вверх дном, – отвечала Новосильская. – У Богоявленского, я понимаю, это может быть искренно, потому что он мало смыслит и ничего не любит; а у Милькеева это разве не натяжки! И что они могут! Что они могут сделать!
– Личное творчество! – насмешливо сказал предводитель.
– Вам смешно, а мне вовсе нет! – отвечала Катерина Николаевна.
Предводитель немного погодя прибавил: – Да, худо то, что он сюда не заехал на минутку и не хотел слушаться меня… Впрочем, еще лучше, как обожжется в Петербурге, так тогда и меня вспомнит… Я напишу ему нарочно еще, чтобы он рано не ездил сюда. Если вы ему мать по сердцу, так не сбивайте его с пути движения и той ажитации, в которой он как сыр в масле катается.
В душе, конечно, предводитель был рад-радешенек, что Милькеев не заехал; желания его скоро все исполнились. Брат через полгода какие-нибудь… не более, читал уже крестьянам «Положение» на троицком крыльце; а предводитель смотрел в окно, краснея от волнения и кусая себе усы. В этот день в Троицком, в Деревягине и в Курееве господа были гораздо веселее самих крестьян, слишком покойных и еще нехорошо вошедших во вкус свободы. Все знали, конечно, что Владимір Алексеевич Руднев радовался не торжеству принципа, а тому, что кусты и луга на Пьяне и вся пахатная земля за овинами отойдет теперь к Васе и Любаше, а родные съедят гриб… да еще разом два: и без деревягинской земли, и без работников!..
Баумгартен еще до зимы, измученный холодностью Nelly, уехал в другую губернюю развивать рассудок, чувство и волю других детей по всем правилам французского министерства народного просвещения!
Но Nelly не осталась без поклонников: теперь ей предстоял выбор между молодым Лихачевым, который уже купил chalet Самбикина, и одним женевцем, m-r Tracy, который приехал получить наследство после умершей жены своей, русской помещицы.
Глубоко проникнутый просвещенным демократизмом Европы, m-r Tracy вполне сознавал свое достоинство, как швейцарский гражданин и муж русской дворянки; с твердостью, приличной члену свободного государства, заставлял он, сидя на крыльце в шубе, стоять перед собой наших седых и лысых стариков и ни за что не хотел позвать их в дом до тех пор, пока посредник Лихачов не отворил дверей в прихожую и, сдерживая в себе сильный гнев, не впустил мужиков, не спросясь демагога, в залу.
– Если бы я был в Европе, monsieur! – сказал ему Tracy, задыхаясь, когда мужики ушли.
– Народ бы с вами поступил иначе! – докончил за него Лихачов.
Они были одни; посмотрели друг на другу в глаза; Tracy спросил: «следует ли так отвечать; это ли речь d'un juge de paix!..» Но не вызвал Лихачева, ему было не до вызовов – он становился владельцем прекрасной и большой земли чуть не с полкантона – написал только в губернское присутствие, что г. посредник бунтует против него крестьян и пьет чай с волостным старшиною.
Продав свою землю и отряхнув с негодованием варварский прах с своих цивилизованных сапог, Tracy приехал в Троицкое и сделал предложение Nelly, которая ему сразу очень понравилась и с которой он всю зиму толковал про русскую скуку и отсталость. Nelly отказала и объяснила Катерине Николаевне, что он сам и груб, и скучен, гораздо грубее и скучнее, чем «ces bons mougiks, que j'aime maintenant beaucoup et qui sont si pittoresques et si drôles!» Руднев в это время был в Москве и выдержал экзамен на доктора, а Любаша, чтобы не мешать ему и повеселиться самой, танцевала в Варшаве у дяди. Она было посовестилась сначала ехать (муж так трудится, а она пляшет и рядится в генеральском доме в Польше!), но Руднев рассердился и сказал ей: «надо жить; надо жить, пока молода!» Они возвратились вместе в Деревягино и по этому поводу дали вечеринку, на которой танцевали в угловой комнате, отделанной по совету князя. Александр Лихачов, проездивший весь день по соседней волости, не хотел танцевать и сел с Nelly в укромном уголку; взял со стола яблоко, откусил и не доел его. Nelly взяла его и хотела докончить.
– Что вы делаете? – спросил он вставая, – я принесу вам целое.
– Не надо, – сказала она. Лихачев покраснел немного и спросил: – А очень нравится вам мой chalet? Я слышал, он вам очень по сердцу.
– Я думаю! – сказала она. – Я бы согласна в нем век прожить.
– Это, конечно, зависит от вас, – сказал Лихачев.
– От меня?..
– Будто вы не знаете? К чему это притворство?
– Если бы вы не сказали теперь, я бы не ожидала никогда.
– Разве только страсть дает на это право?
– О! нет, зачем страсть… и без нее можно быть очень счастливыми… Я, скажу вам от всего сердца, рада быть вашей женою… Только вы… Я уже любила, и от этого человека зависело… как бы это вам сказать…
– Загородить вам раз навсегда всех других?
– Да! в этом роде… Но и тогда вы мне нравились… И теперь я больше уважаю вас, чем тогда. А он не хотел… я ему не нравилась… он не хотел увести меня далеко… Я бы дошла далеко тогда… Но… он не хотел сам… И я осталась свободна… Я только спрашиваю, что вам за охота есть вот такое яблоко… обкусанное другим?
– Надо знать, кто его касался, – отвечал Лихачев весело, – вы знаете, что вишни вкуснее, когда их тронут птицы… Сношения с Милькеевым, особенно такие невинные, какие были у вас, только могут развить женщину… Он никого не испортит!..
Сыграли и эту свадьбу, гораздо наряднее и шумнее. Дубки вокруг швейцарского домика все горели разно – цветными фонарями, смоляные бочки освещали двор. Крыльцо и столовая были убраны цветами и коврами. Новая молодая чета украсила окрестности. А Милькеев все не писал!
Однажды Катерина Николаевна, немного больная, лежала на диване, а дети учились у нового учителя в классе; приехал предводитель, очень расстроенный. Катерина Николаевна не слишком удивилась, потому что незадолго перед тем он лишился своей выгодной и почетной должности за то, что не хотел поддерживать дворян во всех их проделках, и служил в другом участке, точно так же, как брат, простым посредником, и хотя он с пяти тысяч перешел без ропота на тысячу пятьсот, но положение его было гораздо запутаннее и тяжелее прежнего; при его народно-демократических взглядах он не находил пока в алчных и еще более, чем помещики, придирчивых крестьянах того утешения, которого бы ему хотелось найти.
– Что, Николай Николаич, – спросила Новосильская, – опять сечь надо, как на той недели. Это ведь ужасно!
– Лучше бы сечь… А тут хуже. Только вы посмотрите… Эх! уж эти спазмы… Вот вам письмо, читайте… А я за проклятыми каплями схожу…
Письмо было от Богоявленского к младшему Лихачеву.
«Пишу к вам по просьбе общего друга нашего, Василия Николаевича. Ему самому не хотелось, он посылает только два слова на записке! Скоро из газет вы узнаете, что с ним случилось. Как нам всем жаль его, выразить трудно! Даже люди совершенно других взглядов и крайне отсталые сочли себя обязанными сделать все что можно для его вещественного успокоения».
За этим следовали подробности о судьбе Милькеева и ряд, по-видимому, искренних и самых жолчных проклятий.
Задыхаясь от слез, Новосильская схватила клочок, на котором рукою ее избранного сына были набросаны слишком знакомые слова: «Горевать нечего. Не навек! А факт этот сам по себе ничего!.. Пожалуйста, чтобы у вас все было по-старому. У вас прогресса не надо!» Послали за Рудневым. И на дубовой горке муж целый день молчал, a Nelly твердила: «О! Боже мой, о, Боже!» – Духом бы не падал, – отвечал ей мрачно старший Лихачев, – поехать опять к этой Катерине Николавне, она лежит ведь теперь. Чертовщина какая! Брат! если ко мне от волостного старшины кто будет, пришли туда… Целый день рыщу, а сегодня пусть не прогневаются и подождут хоть до вечера; хоть мужик, хоть барин – все пусть ждут. Пусть не прогневаются… Я ведь тоже живой человек!
Не болезнь Катерины Николаевны его смущала – он знал, что это скоро пройдет – но мучила совесть. Врожденная доброта шептала ему, что он толкнул Милькеева отсюда, когда тот еще колебался, хотя здравый смысл и отвечал, что и без этого толчка Милькеев бы уехал. И, наконец, если бы он остался, то, может быть, не видел бы брата счастливым, добрым и трезвым гражданином, не плавал бы сам в блаженстве отдыха после разъездов, споров и служебных огорчений в игрушечном домике, где встречала его румяная Nelly и говорила, простирая ему объятия: «Ah! voilà, notre gros frère!.. Вот наша толстая брат!
С Катериной Николаевной избегали долго об этом говорить, но раз она сама приехала к ним в гости, довольно свежая и спокойная, и сказала ему: – Хуже всего в этом деле то, Николай Николаич, что я не могу не осуждать его… Посудите сами, не пустая ли это лихорадка… В этом есть что-то больное и ложное. Народ этому не сочувствует. И может ли он сочувствовать?
Николай Николаевич взял со стола газету и, ударив по ней рукой, сказал: – Ведь я то же самое твердил другими словами… Не заехал – вот беда! Я бы его поворотил куда следует… Не знает он ничего… Я говорил ему ехать в Герцеговину.
– Где это Герцеговина? что это такое? – спросила Новосильская.
Николай Николаевич покачал головою.
– Вот посмотрите газету, – сказал он, – прочтите, как перед домом паши были недавно разбросаны отрубленные уши восставших славян! Чего ж бы лучше!







