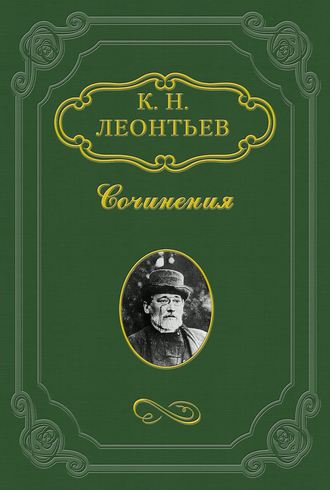
Константин Николаевич Леонтьев
В своем краю
IX
Один шаг – и все переменили настроение.
– Растаял наш сахар-медович у Протопоповых! – весело рассказывал предводитель младшему брату. Собралась через силу: и спина, и голова, и шея – все болит; а денек вышел ясный. Во-первых, сама Протопопова красива; а мы от всякой эстетики не прочь. Поцаловались: «я, говорит, люблю хорошеньких женщин». Потом Колю смотреть, а Коля не конфузится чужих; я, объявляет – «ай-ай». Сели мы в сани. «Приятно, говорит, видеть молодую мать! Все у них свежо и ново!» Я ей, конечно, тут отпел за непостоянство и слабость.
– Отыскивать во всем хорошую сторону – это ее страсть, – заметил младший Лихачев. – А в Чемоданове как?
– Ну, тут мрачнее показалось. Однако, Максим-бородач сюртук надел; старуха глазком мигала; Анна Михайловна как дух кругом от радости носилась. Люба тоже рада! Триумф, а не визиты! Наша царица была любезна, и бабушка согласилась отпускать Любашу, хоть с Полиной, хоть с Сережей на репетиции, если тетке будет трудно. Для театра обещала и сама подняться.
– А Богоявленского звали в Троицкое?
– Милькеев хлопотал. Да нет! Твердость разыгралась у Катерины Николавны. Ни за что! Милькеев подстрекать пробовал: «яду, критики боитесь!» – «Пускай, боюсь: и вы боитесь, чтобы вам клоп на малину не попал». Его же оружием бьет: «вы сами, говорит, не велите быть всегда гуманной!» – Что ж Милькеев?
– Утешал Богоявленского; сидел с ним больше, чем с Любашей. А он, кажется, намерен за ней увиваться?
– На здоровье! – сказал младший Лихачев, потом прибавил: – Сарданапал не был?
Брат искоса взглянул на него и отвечал угрюмо: – Не был; а Варя была. И ее звали, смотреть, конечно, пьесу, а не играть.
– Еще бы! – сказал Александр Лихачев, – Еще Любаша сыграет туда-сюда по-французски, а у этой всегда вместо французского N будет русский наш!..
Владимiр Алексеевич тоже шептал в Деревягине племяннику о новом оживлении Троицкого.
– Мановение! мановение руки! – говорил он, – одно мановение руки!
Явилось, наконец, в Троицком и то, чего в нем недоставало, по мнению Милькеева: начались праздничные ожидания, приезды нарядных женщин; репетиции внизу; прогулки в лес; по вечерам танцевали под фортепьяно Новосильской, скрипку еврея-винокура и кларнет дворецкого; танцевали запросто, весело, искренно, много; танцевали и радовались, что послезавтра будут опять танцевать. Дети были вне себя; горничные и слуги по три часа не отходили от дверей залы, а мальчишки и девочки с деревни по глубокому снегу влезали на террасу и висели на окнах. Баумгартен совсем успокоился; бегал из угла в угол в блузе, вымаранной красками, поправлял некоторые места в комедии; помирился даже с характером Феди за то, что Федя не без души и очень складно пел куплет в его комедии: Rêve, parfum ou frais murmure, Petit oiseau qui donc es-tu?
И вообще, наслаждаясь игрой детей, которые должны были представлять цыганят, стал добросовестно сомневаться, не слишком ли поспешно он счел русских народом неспособным и пустым? Сообщил об этом сомнении Nelly, a Nelly совсем уже осчастливила его, сказавши зря и без всякого отвращения к русским, что они «все и ничего!» – Однако они переимчивы! – заступился он на радостях.
Милькеев уже не ходил задумавшись по целым часам по зале; не сидел запершись у себя, не пропадал на трое суток у Лихачевых; в свободное от уроков время он не брал книги в руки; без Любаши помогал Баумгартену писать декорации, а при Любаше был с ней и развивал ее. Любаша заметнее удалялась от него, когда Руднев был тут; но без Руднева… держала себя немного свободнее, как думали все со стороны. И с тем и с другим она была уже на приятельской ноге; сама звала танцевать Милькеева, посылала не раз в Деревягино сказать Рудневу, что пора в Троицкое, что ей без него скучно.
Простодушие Любаши заменяло ей хитрость, и никто не мог понять, кого из них она предпочитает. Веселится ли она только с обоими, или любит одного из них. Особенно с тех пор, как князь Самбикин уехал в Москву по делам матери на целый месяц, она стала еще развязнее.
– Что, отец мой, как дела? – спрашивал вначале Руднев у Милькеева, – интересно мне будет видеть, как вы отобьете ее у кирасира. Хоть и смирный он, и уехал, а все кирасир, и брюнет, и богат, и друг детства… Эх! кабы наша-то взяла…
– Я надеюсь, что у нее есть вкус! – отвечал Милькеев, который никогда еще не был так весел.
Через три недели Руднев спросил у Любаши: – Как вы теперь находите Милькеева?
– Теперь я всегда вам буду верить. Какой он славный, умный какой. А как он вчера хорошо в классе детям рассказывал про римлян и христианских мучеников… Я все поняла!
– Да! он красноречив, – прошептал Руднев и задумался.
Вернувшись на ночь в свою пристройку, он не мог спать: ходил, ложился, садился к столу и, наконец, решился написать Любаше письмо: «Я сам не знаю, когда это случилось со мной, только я теперь без вас минуты считаю. Все, что прежде мне казалось словами и фразами у других, все это теперь стало для меня понятно. Поверьте – надежд у меня нет! Кого бы вы ни выбрали – Самбикина или Милькеева, я все-таки буду в стороне! Надежд у меня нет; а иногда я думаю – может быть! Прежде я мог судить вас, а теперь только любуюсь; прежде я все думал, что не полюблю, если женщина сама не откроется мне, а теперь иной раз я понимаю тех пожилых людей, которые, вопреки отказам, добиваются руки холодных к ним девиц, покупают их деньгами, вниманиями, просьбами, надеются на привычку и усталость. Часто думаю я: жениться бы на вас во что бы то ни стало, год пожить с вами, а там – пусть будет что будет! Как мне трудно стало в больницу от вас уходить, – я вам выразить не могу; на книги смотреть некогда; все об вас думаю. Когда это сделалось со мной, – не знаю! и прежде вы мне нравились, а все-таки были как чужие. Не тогда ли это случилось, когда вы вдруг вышли из зимнего саду в залу в белом шолковом платье с голубыми полосками и косу одной рукой поправляли, а другую дали мне поцаловать? Или тогда, когда я решился протанцовать с вами вальс по вашей просьбе и спросил у вас, где вас посадить, а вы сказали: «около вашего дяди!» Я подумал: неужели она уже и дядю моего любит и жалеет, как я жалею часто то Максима Петровича, то Анну Михайловну, то вашу злую бабушку, оттого что они ваши! Или тогда, когда вы похвалили мою руку и спросили, мою ли я ее после операций, – я уж не знаю. Только я бегать за вами готов, у ног ваших лежать стал бы сейчас; самолюбия у меня уже нет… Я не знаю, где оно и не хочу знать!
Как я Чемоданово ваше полюбил, – я вам выразить не могу! Знаете ли вы, что иногда оно мне кажется лучше, чем Троицкое; больше на русское похоже: дом старый, окна ближе к земле; вся душа изныла об этом! а калитка! Боже мой! Калиточка забытая в поле… Всякую травку я знаю там теперь! Если бы я мог вам объяснить, что я чувствовал, когда сиживал с вами долго в угловой комнате у окна, перед которым стоит елка! И вы ведь любите эту елку и это окно… Вы сами сказали раз с таким чувством: «вот наша елка!» О бабушке вашей я сколько раз говорил себе: «все-то теперь на нее нападают, все бранят ее: и Богоявленский, и Милькеев, и Лихачевы, и люди – а ведь она умна, и отчего-нибудь да болит же у нее душа? И не все же она одно дурное делала? Ведь вы ей не дочь, – а она заботится об вас, как умеет – и людям лекарства дает иногда…» О! Как бы я вас всех любил! Как бы я забыл пятно прошедшего! Скоро освободят крестьян, и старики будут безвредны; мы будем без страха тогда уважать их добрые свойства… Я буду вдвое трудиться, втрое – сколько хотите, лишь бы у вас были платья, лошади, духи… Вы будете порхать, и я буду счастливее вас, глядя на вас из угла…» Он исписал еще листа два в том же духе, прочел внимательно письмо два раза, вздохнул и разорвал его.
«Что с тобой, Руднев? – говорил он себе. – Где твоя скромная сила? Где независимость? Не гордись тем, что ты отрывался не раз от рояля, на котором она играла, чтобы спешить в больницу, где стонали и ждали тебя мужики. Этого мало! В этом тебя все видят и судят. А ты беги от нее для свободной науки, в которой ты один себе судья!» Но есть ли возможность устоять, когда вечером, подъезжая к лазарету, он видел освещенные окна замка, видел тени в окнах и узнавал их!
И то уже радовало его, что он скрывать умел безнадежные чувства.
Милькеев тоже не всегда наслаждался с Любашей. Иногда он мучился нетерпением, ожидая от нее признания в любви или, по крайней мере, такого намека, который бы облегчил ему признание… в чем? Он сам еще не знал!
Иногда она раздражала его именно тем, чем прежде нравилась не раз: простотой, неопытностью, незнанием; тем, что читая книгу, говорила про героя: «Ах! он добрый; ах! он недобрый» – и больше ничего.
Раз из-за подобного предмета они рассорились и жаловались оба: он – Новосильской, она – Рудневу.
Любаша попросила его рассказать, как он был влюблен и почему не женился.
– Я слышала от Лихачева, что вы были сильно влюблены? – прибавила она. – Скажите все, как это было.
– Зачем это вам?
– Я сама никогда не была сильно влюблена, так хочу знать, как это бывает.
– Как это было? Вот как. Я берег лоскутки ее платьев, как драгоценности; цаловал иногда. Все, что принадлежало ей; все, что касалось до нее, было мне мило. Она жила в строгом доме, и постом ей не давали скоромного; она потихоньку ела раз рябчика руками… Так я эти грязные руки сам съесть был готов. Она была не очень красива. Зубы были нехороши, лицо широкое, нос круглый, руки большие и сухие; талия только была эфирная и глаза огромные, серые с черными бровями. Она этими глазами умела выражать все, все: и гнев, и доброту глубокую, и хитрость, и мечту… Она была старше меня двумя годами, хитра, упорна, тщеславна и старалась скрыть свое тщеславие. Так мне и в жизни, и в книгах казалось странным, что за охота людям любить девушек или женщин, которые очень молоды, у которых руки малы, лицо свежее, нос прямой… «Это все не то, думал я, все не то! Не знают они, где настоящее блаженство!» – И вы не женились на ней? – с удивлением спросила Любаша.
– Не женился. Она вышла замуж за богатого и привыкла к нему. Уж она была помолвлена и опять предлагала мне отказать ему, если я через год, когда кончу курс в университете, женюсь на ней или если оставлю учиться теперь… Денег не было ни у нее, ни у меня. Я не хотел трудиться, чтобы кормить семью; не хотел оставить университет – и отказался… Ноги подкашивались, жолчь разлилась; квартира опротивела; в больницу лег; все смеялись и жалели меня: думали, что она провела меня; а никто не знал, как она за неделю до своей свадьбы цаловала мои руки и готова была убежать со мной… И все-таки я не женился…
– Значит, вы ее не любили! – воскликнула Любаша.
– Может быть, – сухо отвечал Милькеев. – Вы называете любовью одно, а я – другое. Я знаю только вот что, что через два года я был на другом конце России и сидел раз у камина с молодой вдовой… Она меня любила; красивее той была в десять раз; я любовался на нее и на камин, а сам думал: «нет! это все не то!» Через три года повернул раз за угол на улице, и вдруг лицом к лицу встретил высокую, круглолицую женщину с прекрасными серыми глазами и в точно такой соломенной шляпе с лиловыми лентами, как у нее была. Ноги задрожали, и сердце дрогнуло!.. А все-таки прекрасно сделал, что не женился. Теперь у нее много детей… Что бы я делал!?
– А теперь что вы делаете? – спросила Любаша с негодованием и ушла от него к Рудневу.
– Ваш друг – пустой человек! – сказала она, – можно ли было так поступать! Боялся для детей трудиться. Как стыдно!
– Бог знает, Бог знает!.. Это надо обсудить внимательно, – отвечал обрадованный и смущенный своей радостью Руднев…
– Вы бы так не сделали…
– Не знаю-с, Любовь Максимовна; не знаю, право, как бы я сделал, – продолжал доктор тревожно, – а Милькееву лучше всего быть свободным… Ему, верно, что-нибудь и тогда шептало – будь свободен!.. Он не женится никогда и прекрасно сделает!.. У него такая уж звезда!
– Не женится – никогда?.. – повторила Любаша задумчиво. – А вы?
– Я тоже никогда не женюсь – отвечал Руднев грустно. – Но по другой причине… Он не хочет, а я… я не могу…
Любаша посмотрела на него, взяла его руку и сказала: – Какой вы милый! Какой вы славный! Как я вас люблю!..
– Хм! – отвечал доктор, не сводя с нее глаз.
– Что это хм!? Разве так вы должны отвечать?
– Признаюсь, – отвечал Руднев, вставая и отходя от нее, – я желал бы лучше, чтобы вы меня бранили, как его… чем это… люблю! Уж это плохо! Это очень плохо…
– Куда вы? Куда вы?
– Нет, нет, у меня есть дело! Прощайте… Это плохо! Хуже такого объяснения нет ничего!.. Это очень плохо! Это скверно! – твердил Руднев, уходя.
Дети в зале схватили его за платье; но он сказал с такой силой: «ради Бога – оставьте!», что никто не стал его удерживать…
Милькеев, с своей стороны, жаловался на Любашу Новосильской: – Куда как она тупее Nelly! – сказал он, – я той тоже раз говорил о моей первой любви – слово в слово то же самое. Но она совсем не так отвечала мне! Совсем не так!.. «Я думаю, тогда вам было стыдно (она сказала); а после, как вы были рады и гордились вашей независимостью… Фи! как унижает человека этот мелкий, ежедневный труд!» Так что мне еще пришлось защищать труд!..
Новосильская засмеялась и отвечала: – Да! Здесь вы с вашими воздушными стремлениями ничего не сделаете. Любаша, должно быть, очень практична, и дорогу в ее сердце прокладывать надо дружбой, добротой и привычкой, а не дон-жуанством или немецкими сентенциями… Как бы Василек не взял верха над Василиском?.. А! что вы скажете?
– Нет; это было бы слишком хорошо! Я боюсь, что она поиграет-поиграет, да и выйдет за Самбикина… От этого надо ее отучать. Если б я этого не боялся, я бы, несмотря на ваши проклятия, возвратился к бедной Nelly, которая без меня, я думаю, страшно тоскует… Сами хотите, чтобы я здесь побыл еще, а жить не даете… Я обещаю вам, что я дальше поцалуев не пойду.
– Нет, нет, нет! – с испугом воскликнула Катерина Николаевна. – Я опять вас прошу – ради Бога, оставьте… Я даже готова сказать вам одну вещь… Смотрите только – молчите! Старший Лихачев и спит, и видит, как бы брата женить на Nelly… И брату она нравится; только он об этом не говорит: думает ли он, что она вами занята, или еще находит, что жениться ему еще рано… не знаю. Теперь он чаще с ней стал говорить с тех пор, как вы с Любашей. Разве вы, Вася, захотите мешать этому? Он, любя вас, не хотел вам мешать прежде, а вы будете? Такая милая жена разве не исправит его пороки? Разве не приятно сделать ее русской, когда она и без того уже любит нашу жизнь?..
– Это ужасно, однако! – воскликнул Милькеев, – жить на свете нельзя! Если б я знал, по крайней мере, что Nelly наверное ко мне неравнодушна, я был бы покоен… И оставил бы ее вовсе…
– Вы не хитрите, Василиск? – спросила Катерина Николаевна.
– С вами-то! – отвечал Милькеев.
– Ну, смотрите… Я на вас надеюсь.
Она передала ему все разговоры свои с Баумгартеном, предводителем и самою Nelly, показала ему даже заветные листики, списанные французом, повторяя беспрестанно: – Это слабо, это гадко с моей стороны. Но я знаю – вы меня не обманете!
Милькеев был поражен, читая о розовом облаке на горах, о разговоре в зимнем саду, о самом себе столько лестного. Ему было не до шуток; молча сложил он листы и отдал Новосильской. Смущенный, задумчивый… не зная куда скрыться от самолюбивого восторга и внезапного прилива чувств, он поспешил уехать в Чемоданово, надеясь около светлой и бесстрастной, по-своему загадочной Любаши забыть близость той, которая ждала только одного серьезного движения с его стороны, чтобы отдать ему душу без страха и угрызений.
X
– Что ж ты, Сергей, не едешь в Троицкое? – спрашивал Максим Петрович у сына. – Ты видишь, тетка больна; сестре ехать не с кем.
– Боюсь бы скучно не было, – отвечал Сережа, потягиваясь.
– Дома веселее? Опух от сна! – сказал отец и прибавил, обращаясь к Богоявленскому, – вы, что ли, его не пускаете?
– Я ему не отец и не помещик, Максим Петрович, – отвечал Богоявленский.
– Поедем, Сережа, голубчик, – говорила Любаша, – посмотри, как там хорошо. Все идеи твои там объяснят тебе. И графиня, и доктор, и Милькеев… У Милькеева я нарочно для тебя спрашивала об этом…
– Баба ты, баба, Любаша, глупая баба!
– Видишь, какой ты грубый: что это – баба! Там ты бы отвык от таких манер! Поедем, голубчик! – уговаривала сестра, которой дома после Троицкого все казалось и грубо, и скучно.
Сережа пошел к Богоявленскому и сказал ему, что от сестры отбоя нет, что нельзя не ехать.
– Поезжай. Что ж! попляшешь там…
– Неловко как-то! – заметил Сережа.
– Да ты говори начистую. Обиняк-то брось… Что тебя конфузит?
– Несовременно как-то! – сказал Сережа. Богоявленский усмехнулся.
– Проверь себя – прекрасный случай, – отвечал учитель.
Сережа в восторге уехал с сестрой, а Богоявленский заперся у себя и, схватившись руками за голову, просидел над столом целый час.
Постучали в дверь и позвали его обедать. Он вышел, как часто выходил: бледный, всклокоченный, злой, но в столовой душа его прояснилась: Варя Шемахаева была тут.
Отобедали молча. Только под конец Авдотья Андреевна начала бранить Милькеева.
– Презлой язык у этого человека, – сказала она, – непостижимо для меня, что ему княгиня Самбикина сделала; не проходит разу, чтоб он ее не чернил! И кривляется, и свету настоящего не видала…
– Ужасно, ужасно! – воскликнула Анна Михайловна. – Возненавидел и чернит… А про князя прямо говорит, что он глуп…
– Я ему последний раз сказала, – продолжала старуха, – мне очень жаль, мсьё Милькеев, что мой старый друг, княгиня, вам не по вкусу, но что ж делать! Всем не угодишь. «Извините, говорит, Авдотья Андревна, я не знал, что она вам друг!» Я говорю: «Не беспокойтесь, мой милый, она от вашего мнения ничего не теряет!» Покраснел и ни слова.
– Покраснел и ни слова! – с восторгом взвизгнула Анна Михайловна.
– Не хотел отвечать верно! – заметила Варя, – по доброте не хотел старого человека сердить.
Богоявленский ободрительно взглянул на Варю, и Варя продолжала: – А я так со смеху умираю всегда, как княгиня начнет всю свою родословную перебирать… Граф Иван женился на княжне Прасковье; а Прасковья сестра была графу Василию, и граф Василий брат княгине Василисе… А уж Василиса никак самому Чорту Иванычу Веревкину была сродни!
Богоявленский и Максим Петрович засмеялись. Авдотья Андреевна побледнела еще сильнее обыкновенного.
– Не нам с тобой, Варвара Ильинишна, о людях так строго судить! Еще к тебе люди слишком добры. Мало ты дурила и дуришь, а тебя все на глаза к себе пускают! Ну, заступалась бы ты за Лихачева, коли он тебе и твоему брату приятель; а Милькеев что тебе дался, что ты за него взъелась?
– Умный и образованный человек! – пылко возразила Варя. – И молодец – третьего дня приехал на тройке, на крыльцо вышел – картина! Сел и полетел!
– Образованный? – спокойно переспросила старуха, – с каких это ты пор за образованностью гоняться стала?.. Прошлого года никак книги вверх ногами держала, да на девку сваливала, что, мол, девка, каналья, так подала…
Варя покраснела и отвечала еще задорнее: – Что ж! Коли я сама необразованна, так в других цену знаю. А в необразованности моей старые же дворяне виноваты, а не я. Ваш брат, а мой папа был так глуп, что не позаботился. Все это старье на одну осинку бы.
Богоявленский ликовал молча. Авдотья Андреевна потеряла терпение.
– Послушай, ты, глупая девка, если я тебя на глаза к себе пускаю, так это оттого, что ты моего брата дочь, а сама ты грязной ветошки не стоишь… Ступай вон – и не езди больше сюда. А не то я тебя холопьям велю вытурить…
– Погодите, – сказала Варя, глядя в окно, – еще лошадь за мной не приехала. А вы не командуйте, когда у вас своих мало… Дали Любаше тройку – да и все тут, и прогнать меня не на чем… Пешком я не пойду по снегу.
С этими словами она встала из-за стола и ушла в комнату Богоявленского.
– Экая вышла дрянь! – грустно сказала Авдотья Адреевна. – Кто бы мог подумать! Девочка была милая прежде.
– Это она занеслась оттого, что ее в Троицкое на вечер пригласили, – заметила Анна Михайловна.
Авдотья Андреевна вздохнула.
– Нет! – отвечала она потом, подмигивая ядовито, – это пустое. От этого не испортится. Скорей этот Милькеев вбил ей что-нибудь в голову или кто-нибудь еще почище Милькеева. От зла и низости нигде не убережешься. Вот и Сергея послушать, так волос дыбом станет… Да, впрочем, я скоро все это по-своему перековеркаю!
Богоявленский понял намек и, вставши из-за стола, пошел в свою комнату. Варя, услыхав, что он идет, схватила со стола книгу, перевернула ее вверх ногами и притворилась, будто читает.
– Эх, Варвара Ильинишна, вы вот балуетесь да шутите… – сказал Богоявленский, – а мое дело плохо. Авдотья Андревна хочет и меня согнать со двора…
– Большая беда! – отвечала Варя, – а у брата дом на что? У нас поживете, пока место найдете…
– Эх вы! Вы не знаете. Я себе дал слово нажить рублей хоть триста, чтоб уехать куда-нибудь отсюда… Куда-нибудь, где люди больше на людей похожи. Авдотья Андревна должна мне за два месяца; пока не заплатит, не выгонит… Терпелива, крепка, старая!.. А заплатила – марш… и не хватит по моему расчету… Уж надо рожном против рожна… Терпение против терпения…
– Оттого-то вы за обедом меня не поддерживали? И за Милькеева не заступались? А я так его за одно то уж люблю, что он, как приедет, все им наперекор говорит… Надоели они мне все, как горькая редька! Рада я радехонька, что с Новосильскими познакомлюсь… Я уж приготовила светло-лиловое платье к вечеру и бархатками чорными обшила… Блеснем!
– Ой! не хвались, едучи на рать! – сказал Богоявленский. – А я бы на вашем месте не поехал.
– Это отчего? – с гордым и кокетливым движением головы воскликнула Варя.
– Да что ж… По-французски вы не знаете; в светском обществе не бывали. Срежетесь еще – что хорошего!
– Срежусь! – с досадой возразила Варя, – еще это увидим!.. Чем это я так плоха? Что там экзаменовать меня будут, что ли?
– Экзаменовать, Варвара Ильинишна, точно что не будут; а что срежетесь – мудреного нет!
– Зависть это вас гложет… Самих не звали…
– Как не звать – звали! Вчера Милькеев говорил… А я все-таки не поеду!
– Милькеев! Так вы не понимаете до сих пор, что Новосильская сама об вас и слышать не хотела – Милькеев насилу-насилу упросил ее…
Богоявленский в свою очередь покраснел.
– Коли так, спасибо вам, что сказали, – продолжал он, – спасибо Милькееву, что беспокоился… Рыбак рыбака видит издалека: хоть бы и не поехал, а все-таки спасибо ему, что хлопотал. Кабы не он да не беседа его изредка, так голову бы, кажется, другой раз себе размозжил об стену здесь. Поговоришь с ним час-другой – и вздохнешь полегче…
– А я… А со мной? – игриво спросила Варя.
– Что вы! Разве барышни, подобные вам, людей ценить умеют? Вот я вас прошу для вас же самих не ехать в Троицкое, а вы кобенитесь. Милькеева вы хвалите за что?.. Разве вы знаете, что в нем хорошо?.. Давича про образование за обедом упомянули – и бабка вас ловко вздула за это! А вам вот что нравится – сел и полетел!
– Грубиян!.. вот назло же вам поеду в Троицкое и всех там с ума сведу! Прощайте; лошадь моя приехала… вот она, – видите…
– А руку сегодня не дадите? – спросил Богоявленский.
– Не дам! Знать я вас не хочу! – отвечала Варя шутя и вышла. Потом вернулась и подала ему руку, – на счастье – послезавтра в Троицком! – сказала она, сверкая глазами.
Богоявленский проводил ее на крыльцо и, возвращаясь к себе, встретил в зале Пелагею.
– Муж, а муж… муж… дай хлебушка! – закричала дура.
– Нет у меня хлеба, отвяжись! – сказал Богоявленский.
– Что ты меня бьешь, дурак, а дурак, что ты меня бьешь! дай мильон… дай мильон…
– Мильон – я тебе дам… Постой… Послушай, видишь – вот двугривенный… видишь, не чорный мильон, а белый… Вот пятак чорный, а это белый; я тебе его дам, скажи только, о чем я думаю: да или нет!
– Нет! – закричала дура.
– Прах тебя возьми! На вот тебе, – сказал Богоявленский.
Пелагея Сергеевна понесла двугривенный к Авдотье Андреевне с криком: «Алеша дурак… Муж мой белый мильон мне дал!» Все удивились, что семинарист так расщедрился, не подозревая, что он гадал.







