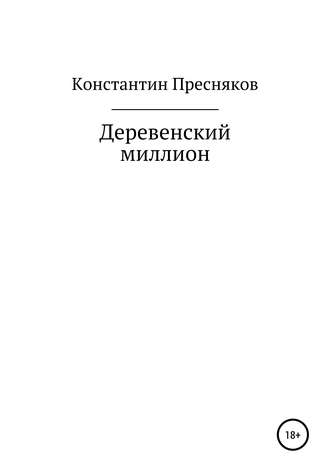
Константин Анатольевич Пресняков
Деревенский миллион
– Да, конечно! Это первый президент Свободной демократической России.
– Ну, пусть так. Так вот он поставил Егора …Гайдара, и тут же издал указ. Тогда мы стали жить по указам, а не по постановлениям. Этот указ предусматривал в кратчайшие сроки расформировать колхозы-совхозы и создать фермерские хозяйства. У нас в области были на тот момент сильные коммунисты и у власти до девяносто восьмого года были они. Область входила в красный пояс. И у нас губернатор того приказа не послушался, мы поставляли мясо, молоко, пшеницу, овощи в областной фонд. И народ кормили. Хотя нас эти демократы-бандиты кинули.
– То есть, как кинули?
– Ну, самым натуральным способом. Нас селян, как колхозников, так и рабочих совхозов, просто кинули. Если говорить по бандитским понятиям. Три года нам вместо денег Гайдар давал чеки урожаев 90, 91 и 92 годов, а потом Егорушка их простил нам.
– То есть, как простил? …
– То есть он … кинул. …
– Да не может быть такое?
– Эх, молодой человек, … плохо вы знаете историю. Тогда ведь даже прокуратуру подключили, чтобы нас разорять.
– Как?
– Прокурорам дай задание, так они носом пашню будут пахать, но задание выполнят, не смотря на нарушения закона. Хорошо, что в те времена в Думе, в Москве от нашей области был депутатом сам прокурор. Он приехал, проехался по области, проговорил с прокурорами. Пристыдил их или ещё как там. Не знаю подробностей. Но на нас не так стали давить, как в других областях и республиках. Оставили нас в покое. Но, в результате у нас перестали закупать продукты для федерального фонда, а только для областного. А что значит для областного? Это – для школ и больниц. Некоторые воинские части закупали. То есть шёл какой-то товарообмен: продукты – деньги. Часть заводы закупали для своих столовых, … но у нас оставались излишки. Эти излишки в кавычках, которые мы готовили для федерального фонда. И мы стали его сокращать. Куда его девать? Да, у нас не было мест хранения и не было переработки. Молоко ведь хранить нельзя: его либо сразу продавать, либо на кисломолочку, или в творог и в масло перерабатывать. В колхозах этого не было. Мясо тоже нельзя хранить.
– А если в колбасу переработать?
– Да, только в райцентре был один мясокомбинат, но он – маломощный. А раньше в федеральный центр поставляли, охлаждали мясо и в Москву гнали. Я тогда стал колхозником выдавать натурал вместо зарплаты. Режем коров – отдаю зарплату мясом, они, кто подальновидней, стали его коптить и на рынок вывозить. Но вывозить, это хорошо у кого были собственные легковушки. На рынке стоять надо, а тут беспредельщики. Рынок захватывали бандиты… Настоящие кавказские бандиты. Либо они тебя пристрелят, либо всё отберут. В середине 90-х помнишь, какая война была? Сколько погибло, пропало. Это всё попало в бандитские жернова гайдаро-ельцинской демократии. Главная опора в производстве зерна – материально-техническая база. Во время передела собственности вспыхнуло, как инфекция, массовое банкротство колхозов и совхозов, а затем и вновь созданных крестьянско-фермерских хозяйств. Тысячи их прошли процедуру в кавычках финансового оздоровления, а в действительности – просто распродажу имущества. У нас уничтожили 76 тракторов, 80 зерноуборочных комбайнов, других нужных сельхозмашин. Если у нас в 1990 году на один трактор была нагрузка 9,5 га пашни, то нынче – 25,5, на комбайны соответственно – 15,5 га и 40,0. Это же какая нагрузка на технику, а она тоже изнашивается! Ведь на селе нет денег, чтобы закупать новые машины. Власть еще не расплатилась с нами по чекам 90-х. Да и диспаритет цен, горючка, электроэнергия, газ, железо-запчасти, сами машины дорожают, а закупочные цены на продукцию сельского хозяйства остаются прежними или даже снижаются. Да, стоимость продовольствия растёт! Но не у нас, не у сельчан. Прибыли оседают в карманах посредников, различных «зернотрейдеров» и прочих торгашей.
По стране полтора миллиона машин разрезали электро- и газосваркой, несколько миллионов тонн высококачественной стали за гроши достались Западной Европе. У нас ведь мелиоративные трубы выкапывали, электрические провода отдирали и увозили! Были ликвидированы мощные федеральные системы, предприятия по обслуживанию сельского хозяйства; «Сельхозтехника» – по ремонту тракторов и комбайнов, «Сельхозхимия» – по внесению удобрений и пестицидов, «Росколхозстрой» и «Сельстрой» – по строительству домов, зданий на селе. Все было отработано, как в той же Германий, где я бывал и видел.
– А вы коптить не могли? – уточнил Сила.
– Молодой человек, это же в промышленных масштабах! Так вот, это индивид мог в бочке от силы килограммов пятьдесят прокоптить. Колхозу пару тонн прокоптить не под силу. Индивидуально и промышленно – это разные вещи. У нас не было возможностей. Что можно в частных условиях? – взволнованно рассказывал дядя Коля. Когда мы были уже готовы пойти на это! Не было Росколхозстроя, кто бы нам построил коптильню по правилам.
– Что значит в бочке? … А. … Помню. … Я тогда уже начал учиться в С-ре в институте культуре. Помню эти бандитские разборки, – сказал Сила, вспоминая те годы.
– Как известно, половина успеха в сельском хозяйстве – селекция, семенной материал, породы скота. Оставшиеся пятьдесят процентов – механизация. В результате отсутствия должного количества техники Россия ежегодно теряет более 20 миллион тонн зерна, миллион тонн мяса, 7 миллион тонн молока. Производительность труда в нашем АПК в 6-9 раз ниже, нежели в западных странах, а энергозатраты – в 2-3 раза выше. Не нужно забывать, мы холодная страна и нам дополнительно нужно обогревать коровник. Немцу не надо. Тем более французу или итальянцу…
– И к нам братва приезжала сюда …– продолжал дядя Коля. – Слава богу, как-то мы отвертелись. И я смог провести тогда и асфальтированную дорогу в село за мар, и газопровод. Не знаю, почему, мне это удалось. Но здесь ушёл коммунист-губернатор, а пришёл демократ-губернатор и пошло… фермерство, фермерство, фермерство. Работать не стали давать. Так что, те чеки «Урожаев» 90, 91, 92 годов и повисли, а нам там порядочно миллионов должны были. Только нашему колхозу за те годы чуть меньше миллиарда рублей должны.
– Фи-и-ть, – присвистнул он.
– Вот и свисти. Вон идёт Снежана Оттобальдовна, сейчас поедем, – уважительно сказал по отношению к его жене-доктору дядя Коля, выскочив из салона ей на встречу …
После того как Снежана Оттобальдовна уселась, они тронулись. На выезде из райцентра у молокозавода голосовали односельчане. Дядя Коля вышел поговорить о помощи:
– У меня только одно место, если вот сумки забрать и до дома довести – это могу. Или вот мальчишку забрать? – доносилось до них их разговор. Втиснув ещё пару худеньких пассажиров, дядя Коля тронулся домой.
– Вы знаете, что в том селе очень хороший самодеятельный хор? Один из лучших хоров области, – продолжил разговор дядя Коля, как только они отъехали подальше.
– Нет, мне ещё никто не говорил об этом, – ответил он дяде Коле.
– Там директор местного клуба, Дома культуры, его поддерживает. Сейчас он уже старенький. Но своё дело делает умело. Хор несколько раз становился лауреатом областного конкурса самодеятельности. Народ там постоянный, репертуар тоже. Хотя они регулярно пополняются.
– Нужно как-нибудь послушать. Может, пригодятся.
– Смотри, твоё дело, – напутствовал его дядя Коля.
– Мне нужно туда съездить, посмотреть, как там организованно, – сказала Снежана Оттобальдовна.
– Обязательно, там народ хороший. Я ведь там управляющим одно время был, по-современному менеджером, – уточнил дядя Коля для неё. – Правда, сейчас всё в работоспособном состоянии, то есть не пенсионеров все меньше и меньше. Хотя на селе, возможно, скоро никого не останется: каждый год столько человек, в основном молодежь, уезжает в «город». Где сельский класс? Колхозник или сельский рабочий, или по-новому класс сельхоз производителей так называемых фермеров. Где общечеловеческие или мировые ценности: порядочность, честность, сознательность, солидарность? О производительности труда власть как-то упоминает, но «новые русские» слов таких даже не знают. Собственно даже, цена на нефть – это чисто спекулятивная цена, не в смысле философском, а в экономическом, основанная на психологии, а вовсе не на математических расчётах. Спрос на нефть изменяется на 1–2–3%, а цены гуляют в разы. Точно так происходит и на фондовых рынках: цены акций не отражают никакой экономически хозяйственной реальности, они живут в своём собственном мире. Сегодня в западной так называемой рыночной экономике – искусство наживы, правят бал спекулянты. А в спекуляциях главное – психология. Так что цена может подняться и опуститься от слуха, сплетни. Это позволит нам залатать дыры и опять кое-что накопить, что и составляет нашу незатейливую мечту…
Дорога была прямой, но приходилось на ней петлять из-за ям и выпавших кусков асфальта. …
В очередной раз они вместе со своей половинкой уже лежали в постели. Снежана, прижавшись к нему, в очередной раз спросила, не скучает ли он по своей музыкальной деятельности.
– Ты знаешь, у меня, кажется, рождается гениальная идея.
– У тебя всегда они рожаются. Только вот я боюсь, что твоей идее стать известным музыкантом я мешаю. Теперь ради меня ты застрял в этой дыре. Когда мы ещё миллион получим? А у тебя уходит время.
– Ничего страшного. Ты знаешь, Юрий Айзеншпис даже в тюрьме посидеть успел. А своего не потерял. Даже обогатился. И я посижу на земле рядом с тобой, – он тут поцеловал её, – и у нас всё будет. Конечно, это миллион нам не помешает. Ты только не обижайся, что я иногда отлучаюсь по делам группы. Её тоже нужно поддерживать в тонусе. Да и мне нужно бывать на тусовках, давать интервью, в общем, светиться. … Но я не про это. Я же хотел тебе сказать о своём проекте… – Он поудобней лег на спину, она уложила свою голову на его плечо. – Знаешь, вот … у меня родилась идея.… На мару, это вон гора, которая видна из окон. … Там бы устроить концерт без слушателей для духа русской степи.
– Для кого? – спросила Снежана, не поняв его слов.
– Для Духа русской степи, – тихо, но твёрдо сказал он.
– У тебя какие-то языческие идеи, – сонно ответила она ему.
– Не языческие, а ведические, – уточнил он. – Где-то сказано, что мар – это рукотворный холм. И в его основании имеются могила или человеческие захоронения, наверное, так более правильно. Не то князя, не то великого русского … или предка русских жреца. Так вот я хочу устроить на вершине этого мара поминальную тризну.
– По кому? По Жрецу? Захороненному … ещё до нашей эры, – с усталой улыбкой произнесла она. Он же её усталость ощутил по её полусонному голосу.
– Ну да. … Эх, ты у меня прожжённая материалистка, – сказал он ей и губами потрогал её висок.
– Да, материалистка, мы медики большие материалисты с мистическим наклонностями-и-и…
– У меня рождаются, … какие произведения нужно включить, – продолжал он развивать свою фантазию перед женой. – Пригласить музыкантов, создать музыкальный коллектив из русских музыкальных инструментов, вокал басовитых мужчин.
Я почувствовал, что нужно вставить бородинскую основу в программу и на неё, как на верёвочку, нанизывать другие темы. Представь, вторая часть струнного квинтета Бородина песня «Вижу чудное приволье» и ты сидишь и играешь на просторе! Дальше бородинская Богатырская симфония, мотивы эпической части, я ещё не понимаю, но их нужно вставить. Первая часть – могучая унисонная тема в исполнении гитар, хотя у него там другие инструменты. Но кто мне на спине притащит виолончель!? Никто. А там, на семиструнной гитаре можно эту грузную, кряжистую музыку воспроизвести. И дополнить деревянными духовыми. Аранжировать широкую вокальную мелодию в исполнении виолончелей для гитары и показать раздольную русскую степь… вставить темы из современных песен. Вторую часть Бородинской «Богатырской» тоже взять, там такое движение стремительное скерцо, вырывается из глубины басов на фоне повторяемой валторнами октавы, а затем несётся вниз, словно «не переводя дыхания». Здесь, конечно, тема звучит несколько мягче, хотя и она сохраняет мужской характер. И там синкопа. Синкопа создаёт ритм быстрой скачки коней по бескрайним русским степным просторам. Потом идёт восточная тема, брать её или не брать, ещё я подумаю, не хочется, но нужно продумать. А далее средний эпизод невелик – и возобновляется стремительный бег, постепенно угасая, словно уносясь в неведомое. А тут Образ Баяна – легендарного древнерусского певца, носит повествовательный характер и разворачивается в плавном, спокойном движении. И включить из богослужения знаменитую Херувимскую песню, вокально, акапельно! Аккорды гитар имитируют перебор гусельных струн. После нескольких тактов вступления, интонируемого кларнетом, валторны запевают поэтическую мелодию. Я думаю, из духовиков кто-нибудь, откликнется, – сказал он ей. – Потом звук ощущения угрозы, сгущается тревожность. Как лёгкий быстрый летний дождь проходит и восстанавливается первоначальная ясность. Сюда вставляются некоторые фрагменты темы из других произведений, можно «Полёт шмеля» Римского-Корсакова. Чудесным лирическим эпизодом, в котором основная мелодия звучит во всей полноте своего обаяния, заканчивается часть.
– Сила, – спросила она его почти сквозь сон, – ты рок музыкант или классический музыкант?
– Я же классическое музучилище окончил. А потом ещё и институт культуры по программе консерватории! Снежан, ты меня обижаешь. Я что просто так организовал коллектив ребят, подбирал абы как? Ты что не веришь в мои музыкальные способности?
Сила замолчал, слушая, как она посапывала, уже, по-видимому, спит.
Снежана понимала, не было проблемы хуже той, которая сломала бы мужчину. А он твёрдо решил взять миллион, который давали ей как молодому специалисту, если она отработает 3 года здесь. Она убедила его, что ей эта работа в сельской глубинке, на селе, на земле, в медпункте, а точнее во врачебной амбулатории, очень и очень необходима. Это ради собственного лекарского опыта поработать самостоятельно, на селе. Её, тогда ещё молодой человек, и уже крепко намечавшийся жених, это скумекал не сразу. Ради прогрессивного клинического опыта у неё, будущей жены он тоже решил подождать немного у судьбы. И вот она теперь понимала, что и ему нужно дать эту возможность, здесь организовать своё Я.
Она не противоречила его замыслу, пусть делает, как решил. Группу же он создал, набрал ребят, он знает, как это делать. Пусть, пусть пробует. Звонит, договаривается, пусть приезжают. И скрасит здесь её однообразные охи и ахи. Пусть, пусть затевает и варит свою концертную программу.
Как-то вечером после ужина он стал просить о помощи свою супругу. Оказывается, Сила упрашивал одного скотника приводить его сына на свои занятия музыкой. Сила как-то сказал Снежане, что нашёл одного пацанёнка с чудным голосом. Только не знает, есть у него музыкальные данные или нет. А вот речь его очень красива. Он тут как-то с ребятами гонял в футбол, и приметил этого пацана, точнее услышал его, пояснял он её.
– Он во время игры заворожил меня своим голосом. Я стал упрашивать его отца, чтобы мальчишка стал ходить к нему на уроки. А отец ни в какую: «Какой из него музыкант? Пусть вон девчонки ходят, а не пацан. Пацану вон трактор, машину знать надо. А песенки петь это…» – говорил этот мужичок.
– Он ведь не понимает, что музицирование помогает развитию структурного мышления. А на западе многие крепкие фирмы берут к себе людей, имеющих музыкальное образование. Так как музицирование, особенно оркестровое, хоровое, ансамблевое развивает такие качества, как доносить друг до друга характер, манеру музыки, а это помогает ориентироваться в психологических качествах – помнить о прошлом, смотреть в будущее, контролировать настоящее. … А эти качества очень необходимы именно менеджерам. Я талдычу ему об этом. А его отец ни в какую.
– Ну, тебе же библиотекарь сказала, село без музыкальных традиций! Что ты хочешь? Без традиций! – напомнила она в очередной раз ему.
– Да, это верно. Традиции ансамбля, собранного тем рабочим, это точно не традиции.
– Ну да, сыграли несколько раз на свадьбе, на местном концерте по случаю окончания осени спели несколько песен.
– Да чего там. Я добьюсь, чтобы пацан походил ко мне на занятия. Конечно, от футбола его не отвлечь. Всё-таки ребята должные физически развиваться. Но нужно как-то затащить на пару раз… на репетиции, посмотреть его музыкальные способности, – сокрушался Сила.
– А ты вон девчонок подговори, они и помогут привести его, – подсказала она ему.
– А это мысль!
– А у него на самом деле есть голос?! – спросила Снежана супруга.
– Да не голос. У него что-то музыкально-обворожительное в его обычном голосе. Вот они там, когда играют в футбол, там кричат, просят, указывают. И он тоже и в этом деле участвует, что-то такое произносит. Я ощущаю это на подсознательном уровне.
– Сколько ему лет?
– Не знаю, лет десять-двенадцать. А что?
– Значит, ещё не подростковый возраст. У подростков имеется биологическая потребность самовыражаться в пении. Вокруг поющего и играющего на каком-нибудь музыкальном инструменте парня всегда собираются девчонки.
– Я подходил к его отцу, просил привести, – продолжал Сила. – Он ни в какую.
– А с матерью говорил?
– Да что мать! Отец ведь в семье начальник, – сетовал Сила.
– Ну-ну, – она уткнулась губами в его голову, вдыхая его аромат, и взбивая его волосы в вихри. А сама подумала: «Ну, ты же за мной поехал сюда». Но вслух ничего не произнесла.
– Я ему объясняю, что занятие музыкой развивает математические и организаторские способности, что это – своеобразный способ общения с другими людьми. А он, ни в какую, – всё сокрушался Сила.
– Да придёт, придёт он к тебе. Ты только не кипятись, – успокаивала его жена.
Они уже спали, когда зазвонил телефон. Сквозь сон он слышал, как в динамике кто-то сказал:
– Снежана Оттобальдовна, здесь нужна Ваша помощь!
Он ощутил, как жена выскользнула из-под одеяла, включила свет в коридоре и, кажется, стала одевать. Он спросил:
– Ты опять куда-то? – и провалился в сон. Она что-то ответила не то ему, не то по телефону.
Сила случайно узнал, что в селе в одной семье есть пианино. Его познакомили с одним сельчанином предпенсионного возраста. И тот подтвердил, что в его доме есть музыкальный инструмент.
– Да, у нас есть инструмент. Я его для дочки из Пензы привёз, жена заставила купить, она хотела, чтобы наша Татьянка училась музыке. И я на отцовском «Москвиче» дочь возил в музыкальную школу в райцентр Лопатино. Она её окончила. Вот дома она разучивала домашние задания. У нас в селе никогда не было профессиональных учителей музыки. В райцентре музыкальная школа была. … Как я этот инструмент из области доставлял! «Ласточка», так она называется, кажется.
Они вошли в дом. Хозяин позвал жену. Она вышла из кухни.
– Принимай гостей! Вот хочет Танькино пианино посмотреть, покажи, – сказал он ей.
– Ой, проходите, – она узнала мужа докторши.
Сила прошёл в комнату, увидел завешанное красно-коричневое пианино. Наверху на вязанных в крупную сетку салфетках стояли фигурки из фаянса.
– Можно? – он попросил дотронуться до инструмента. Хозяйка разрешила, внимательно следя за его действиями. Он подошёл, открыл крышку, прикрывавшую клавиши. «Ласточка» было написано золотым курсивом. Нажал на одну клавишу, затем на другую, прислушиваясь к извлекаемым звукам. – Можно стульчик? – попросил он хозяев. Те быстро подставили ему крутящийся стульчик.
Он сел и начал проигрывать небольшие темы, пробуя звуки от низких до высоких.
– Ну что? Как? – спросил хозяин.
– Да ничего. Конечно, оно расстроено, поднастроить бы его. А так вроде бы не плохой инструмент, – пояснил он хозяевам, продолжая наигрывать мелодии. – Вы не «против» будете, если я его возьму на одно мероприятие? Обещаю вернуть после концерта, – спросил он хозяев. Те переглянулись. – Пианино не покинет село. Концерт будет здесь. Заодно мы его настроим?
– А Вы хотите концерт устроить? – хозяйка вопросительно взглянула на мужа.
– Да, имеется одна идея. Пригласить друзей музыкантов и устроить джейм-сейшен.
– Что? Простите, мы не понимаем, что это джем… как дальше?
– Ну, просто неформальный концерт. Я привезу специалиста, он настроит инструмент. И после концерта мы вернём Вам его в целости и сохранности, – после этих слов он начал играть на инструменте, разминая руки.
Он вышел от сельчан, довольный таким поворотом события. Село, никогда не имевшее музыкальных традиций, преподносило ему приятные сюрпризы один за другим.
Выйдя от хозяев, он тут же набрал на мобильном телефоне номер своего друга, клавишника.
– Лёха, привет!
– Привет, Макарыч! Что? Какие проблемы?
– Леха, ты можешь настройщика пианино найти, молодого и мобильного, чтобы приехал и настроил здесь, в Снежанкином селе, пианино?
– Как срочно надо? – вопросом на вопрос ответил он
– Ну, как можно быстрее. Только с оплатой после концерта, нашего концерта.
– А мы будем играть?
– Да нужно подработать, ты там ребятам скажи, и проработайте некоторые места. Я когда приеду, то вам ещё идею подкину.
Сила сидел, ходил и всё названивал по мобильному телефону, выискивая музыкантов. Вот и сейчас он упрашивал очередного гитариста приехать на Джем-сейшен.
– Это возвышение, называемое ма-аром, расположенное в глубине степной России на 51°3’ северной широты и 46°5’ восточной долготы. Это возвышение, холм такой, ну, высокий! … Но условие, от райцентра нужно пройти пешком с инструментом, а остальное, если что, довезут тут ребятишки. Или я сам встречу. Нет, это условие такое, поэтому я и приглашаю только молодых. Да, это около двадцати км, – пояснял он в трубку.
Сила посмотрел на очередную эсэмеску – на ней высветился номер его музыканта. Он прислал пару телефонных номеров, где дополнительно указал, что это за музыканты и как они могут пригодиться для Джем-сейшна. Сила стал набирать по одному из них. Услышал хриплый голос очередного потенциального сообщника. Стал объяснять кто он такой и что ему надо от него. Вот и сейчас он упрашивал очередного гитариста приехать на Джем-сейшен.
– Это возвышение, называемое маром, расположенное в глубине степной России на 51°3’ северной широте и 46°5’ восточной долготы. Находится в степи. Простор. Нет, нужно со своим инструментом. Да, набирается достаточно человек. Многие не профессионалы. Но не в том смысле профессионалы. Играют они прилично. Но не звёзды. Нет, не звёзды. Но приличные. Нет, местных здесь никого нет, ближайшее село вообще не музыкальное. Да, это в степи в полутора километрах от ближайшего села. Но условие, от райцентра нужно пройти пешком с инструментом, а остальное, если что, довезут тут ребятишки. Или я сам встречу. Нет, это условие такое, поэтому я и приглашаю только молодых, кто может пройти двадцать км пешком. Да, это такое расстояние. Дорога асфальтированная, но идти по степи. Машина ездит. И даже иногда автобус раз в неделю сюда пробивается из райцентра. Да, это около двадцати км, – пояснял он в трубку. – Нет, чисто русская степная природа. А вот как придете, вам и расскажут, что это такое мар.
Снежана в очередной раз, услышав как он договаривается с кем-то, уставилась на него.
– Ты что и правду сам хочешь это воплотить?
– А что!
– Да кто приедет в такую дыру?
– Приедут! И приедут те, кому интересен проект. Кто хочет себя проявить. Я им ведь ни денег, ничего не обещаю. Это чисто добровольный проект. Но мистический.
– Эх ты мистик мой любимый, – поцеловала она его.
– Дорогая ты моя, я рад, что ты понимаешь меня.
И они повалились на кровать, обнимаясь, целуясь и занимаясь творческим репродуктивным процессом.
Рано утром, ещё до пробуждения Снежаны Оттобальдовны, у неё зазвонил телефон.
– Здравствуйте Снежана, это Олег. Я надеюсь, Вас не разбудил. Мне сказали, Вы на моем пути находитесь и к Вам можно заехать. Это Олег, друг Макарыча. Вы должны меня знать, мы однажды гуляли с Вами после концерта. Сила, наверное, ещё спит. А Вы на работу будете собираться. Можно к Вам я заеду?
– Ко мне!?
– Ну, к вам обоим. Я просто проездом в Нижний Новгород и могу к вам дать крюк. С Силой поговорить. Я краем уха слышал, он что-то там затевает.
– Ну-у-у, приезжайте. Только меня не будет дома. Кто Вас покормит?
– Это не беспокойтесь.
После того, как в трубке запиликали гудки окончания разговора, она стала тормошить мужа.
– Ну, чего? – спросонья спросил он её. – Я ещё не голоден.
– К тебе заедет какой-то Олег. Он сказал, что знает нас обоих. Вроде как-то вместе после какого-то концерта гуляли. Он проездом. Почему-то позвонил на мой мобильник. Вот его номер, позвони и встреть.
Вечером она, придя домой, услышала разговор Олега с Силой, а в центре комнаты стоял накрытый стол. Это, оказывается, женщина Олега здесь хозяйничала.
– Ой, как хорошо прийти и всё готово, – порадовалась Снежана.
– Ну, пойдемте, мужчины, за стол, хозяйка с работы пришла и проголодалась, – пригласила она ребят. А они не унимались в своей беседе.
– Ты понимаешь, играть в храме…, – настаивал на своём мнении Олег.
– В храме? – переспросил Сила.
– Ну да, в Европе с религией уже не то …
– Но там ведь не было коммунистов-атеистов…, – недоверчиво уточнил Сила.
– Коммунистов-атеистов не было! Но христианская мораль была. … Так вот, там храмы католические, протестантские сделаны под музыку, под акустику органного или хорового исполнения. И когда русский там играет. А там наших!.. Играют и скрипачи, пианисты, гитаристы. Флейтисты. … Здесь такой акустикой … это нас, музыкантов, так приподнимет. Мы обездоленные здесь такой акустикой. Просто за бесплатно играют. Только для себя, просто для своей души сыграть в Божьем храме. Там маломальский городишко и село с историй в сто пятьдесят лет уже имеет католический храм. Они часто стоят в запустении. Приходи, скинь паутину и играй. Так вот, ты понимаешь, что такое играть в таком акустическом пространстве, где ты сам в центре музыки. Музыкант стоит в центре своей музыки. Ощущение. … Храм. Там ведь нет иконостаса, который отделяет алтарь от трапезной. Любой может взойти на алтарь и говорить, говорить, говорить…
– Но это святотатство!
– Святотатство? … – переспросил Олег.
– Да! – подтвердила его подруга им обоим.
– Общение с Богом – святотатство? А ты хочешь сделать это здесь, это … не свя… – как-то ещё не войдя в их разговор, хотела высказать свою мысль Снежана, но не договорила.
– Ты что…?!
– У нас ведь в России строят храмы абы как, без всякой акустической составляющей…
Ну, приедешь на мероприятие? … На мару на 51°3’ северной широты и 46°5’ восточной долготы.
– Ты уже и координаты выучил?
– А что? Это не долго, – возразил ему Сила. – Но, условие! От райцентра нужно пройти пешком с инструментом, а остальное, если что, довезут тут ребятишки.
– Можно жена, – Олег указал на женщину, – подвезёт всё остальное?
– Жена! Это ты меня так обзываешь. А я – не жена. И становиться ей не хочу.
– Ба – а – а, да у Вас здесь… – удивился Сила.
– Не слушайте её, это жена, – сказал Олег
– Можно, можно. Это условие такое, поэтому я и приглашаю только молодых. Да, это около двадцати км, – пояснял он.
На следующий день подруга Олега стала учить Снежану делать ликер, после того, как ей принесли целое ведро свежесобранной клубники. И подруга Олега запротестовала, что просто так сразу съесть это не разумно.
– Столько клубники! – возмущалась она. – Столько клубники, мы сварим ликер. Ягодно-молочный ликёр, – она задвигала бедрами и руками, приступая командовать.
– Вот за что я полюбил её, это за это, за страсть её, – сказал Олег Силе. – Теперь я понимаю, почему ты втюрился в Снежанку.
– Компоненты, – командовала подруга Олега, – 1 кг ягод малины, смородины, вишни без косточек, и другие можно. Литр (!?) спирта Снежанка, надеюсь, выделит нам, – она посмотрела на Снежану. – Пол-литра, в селе и не найти литра молока, такого просто не может быть. Сейчас сходим к соседям. Или ты Силы сходи за молоком, – командовала она. – Так, далее, литр воды, полкило сахара. Олег, ягоды надо аккуратно растолочь, чтобы не раздавить мелкие семена деревянной толкушечкой. И сложишь в трёхлитровую банку, а Снежана спиртиком зальёт. Закрыть банку пластмассовой крышкой, и ежедневно помешивать. Через неделю добавите молоко, ежедневно помешивать, не забудьте.
– Так молоко, которое я сейчас принесу, добавить или свежее тогда взять? – таращился на неё Сила.
– Тогда, свежее, – поправилась она. – Через неделю приготовить сироп из воды и сахара, остудить, влить в банку, ещё одну неделю ежедневно помешивать. С помощью трубки слить в бутылки прозрачную фракцию. Густую часть профильтровать.
– Через что?
– Через… капроновый чулок, – подумав, ответила она, – отстоять и профильтровать окончательно через вату. Получается 2,7 литра изумительного прозрачного насыщенного ликёра. В "зимнем" варианте используется для приготовления клюква. Этот витаминный ликёр хорош для профилактики болезней, – закончила мадам.
– Всё?
– Всё. А мы приедём на твой Джем-сейшен и вы нас будете угощать, – подвела итог подруга Олега. Она взяла карандаш и, переписав всё это на лист бумаги несколько раз, прилепила на кухне, в спальне и перед телевизором. – Это Вам, чтобы не забыли.
* * * * *
– А что такое мар? Силыч, ты обещал узнать, – спрашивали его приезжающие ребята.
– Да я вот одну заметку увидел случайно в «Любимой газете», а потом с тем человеком встретился. Живёт в Кузнецке, он точно не мог мне объяснить! … Что это такое! … – сказал Сила своим приезжающим друзьям. – Алексей, автор эссе о топографических местах, писал, что слово мар, это вроде, как холм в переводе с мордовского эрзянского. И маров, подобных этому, как и на всей Пензенщине и сопредельных местностях, встречается достаточно. Вроде собственное слово «холм», не прижилось среди жителей Посурья. Вместо него здесь употребляют такие топографические термины, как шихан, гора, курган, бугор и, опять же, мар. Сколько холмоподобных возвышенностей, называемых марами в Сурском крае, наверное, никто пока не считал. А ведь их много в Мокшанском, Шемышейском и Малосердобинском районах, да и в близлежащих регионах, их так исстари называют. И что любопытно, все они носят название Красный! Красный мар. Либо от переосмысления древнерусского слова «красный» («красивый»), либо, в связи с особенностями местного ландшафта, либо, по причине каких-то, происходивших там, в старину событий. Есть, правда, по уверению Алексея, мары это Хлебные горы. Он как-то познакомился с одним татарином местным, разговорились, в том числе о странствиях близ его родных мест. Алексей показал несколько его публикаций в газете. И тут, как говориться, они нашли друг друга: один говорит – другой слушает, запоминает и записывает, что находит нужным, – тут Сила перевёл дух и продолжал. – Речь у них шла о двух холмах-останцах естественного происхождения, что возвышаются близ Селитьбенского озёрно-болотного комплекса. Холмы эти обнаружил наш писатель-земляк Анвяр Бикмуллин. «Вот уже четыре тысячи лет охраняют покой этих полей, болот, озёр и струй коренного истока Труёва». Бикмуллин предполагал, что холмы, несмотря на их высоту и мощь, рукотворные, и, по сути – надмогильные курганы вождей древних «срубников». В плоти курганов-холмов ещё никто не «покопался», потому нельзя с уверенностью опровергнуть предположение писателя. Но, вот этот мой знакомый Алексей, всё же, склонен считать возвышения делом рук матери природы: ледниковые процессы, водная эрозия, выветривание и так далее.



