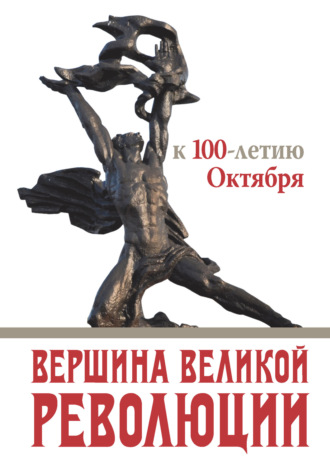
Коллектив авторов
Вершина Великой революции. К 100-летию Октября
I. У истоков великого перелома

Б. Славин
Был ли исторический шанс у «русской общины»?
(О мировоззрении Маркса и Энгельса и их понимании «русской общины»)
Во многих исследованиях последнего времени, где анализируются различные аспекты творчества К. Маркса, вновь и вновь ставится вопрос: «Who is Маркс в науке и истории?» При этом на него даются разные ответы: одни говорят, что он является «талантливым экономистом», другие утверждают, что он «оригинальный историк», третьи видят в нем «своеобразного философа» и даже «культуролога». В определенной степени все они правы и неправы одновременно. На мой взгляд (и не только), Маркс, как основатель целостного и сугубо оригинального пролетарского мировоззрения, не сводится ни к одному из этих определений. Он был одновременно и философ, и экономист, и историк, и культуролог. Об этом, прежде всего, свидетельствуют его труды, посвященные анализу капитала, истории, политики, социологии и культуры. В не меньшей степени это утверждение относится и к творчеству Ф. Энгельса, который много сил отдал разработке и пропаганде их общего с Марксом мировоззрения.
Деятельность Маркса и Энгельса, по сути дела, была невиданным в истории творческим интеллектуальным дуэтом. И хотя сам Энгельс говорил, что он играл в этом дуэте лишь «вторую скрипку», можно с уверенностью сказать, что без нее невозможно представить их общее мировоззрение. Без этой «скрипки» не было бы того всестороннего обоснования социализма, который впоследствии стал научной идеологией пролетариата. К сожалению, эту идеологию сегодня третируют не только открытые противники рабочего класса, но и некоторые российские коммунисты, увлекающиеся «модными» мифами о якобы внеисторической сущности понятий «державности» и «русской идеи».
В истории освободительного движения, пожалуй, не было другого образца дружбы двух революционеров, какой была дружба Маркса и Энгельса. Эта дружба может служить примером не только творческих, но и чисто человеческих отношений. Так, без Энгельса и его бескорыстной материальной помощи Маркс мог оказаться на грани нищеты и вряд ли бы написал свой «Капитал». Без Энгельса не было бы и таких их совместных произведений, как «Немецкая идеология», впервые обосновавшая материалистическое понимание истории, «Манифест коммунистической партии», давший политическую программу действий международному рабочему и коммунистическому движению, не было бы второго и третьего томов «Капитала», которые Энгельс буквально реконструировал из труднопонимаемых рукописей своего друга.
Вопреки мнению его современных критиков, Энгельс никогда не понимал марксизм вульгарно. Он видел в нем учение не только о примате экономики в общественной жизни, но и об активной роли революционного движения, его общественных идей и целей.
После смерти своего великого друга Энгельс взвалил на себя бремя руководства международным рабочим движением. К нему шли за советом революционеры со всего мира, в том числе и из России. У него в гостях были Лавров, Плеханов, Засулич, Лопатин и многие другие русские революционеры. Ленин, к сожалению, не успел встретиться с Энгельсом из-за болезни последнего.
Не следует забывать, что Ф. Энгельс был фактически первым человеком в истории, который в отличие от социалистов-утопистов неустанно доказывал, что рабочий класс не является только «страдающим» классом. Он связывал его историческую деятельность с борьбой за ликвидацию господствующих буржуазных отношений. Эти его мысли особенно актуальны в условиях современной реставрации капитализма в России. Сегодня, когда российские рабочие униженно вымаливают у правительства и собственников свой законный заработок, они напоминают о том, что только в организованной борьбе за свои экономические и политические права рабочие смогут отстоять свои коренные интересы.
Напомню, Маркс и Энгельс впервые встретились заочно на страницах «Немецко-французского ежегодника», где Маркс напечатал свои первые философские тексты, посвященные критике немецкой идеологии, а Энгельс проанализировал современную ему политическую экономию, раскрыв природу буржуазной конкуренции. Маркс назвал эту работу Энгельса «гениальной»[25]. Затем после их личного знакомства происходит своеобразный обмен объектами исследования: Маркс начинает критически исследовать политэкономию буржуазного общества и в итоге создает свой «Капитал», а Энгельс исследует историю социалистических учений, пишет «Анти-Дюринг» и «Диалектику природы».
Оба активно участвуют в создании I Интернационала и отслеживают зарождение и развитие рабочего движения в мире. Переписка Маркса и Энгельса по этим и другим актуальным проблемам жизни и науки показывает, как конкретно развивалось и обогащалось их общее мировоззрение. Их письма друг другу – это не только демонстрация диалектического интеллекта в действии, в осмыслении важнейших вопросов развития общества и природы, но и документ бескорыстной человеческой дружбы двух великих людей и единомышленников.
Выступая на похоронах Маркса, Энгельс говорил, что в основе их общего мировоззрения лежат два поистине эпохальных открытия, принадлежащих Марксу: материалистическое понимание истории с ее выводом о закономерной смене стихийно складывающихся форм общества, и создание теории прибавочной стоимости, раскрывающей механизм экономической эксплуатации трудящихся. Как известно, помимо этих двух фундаментальных открытий в общественной науке Маркс и Энгельс сделали много других, обогативших их общее мировоззрение. Назову для примера лишь Марксову идею о двойственном характере человеческого труда, его анализ становления исторических форм собственности, исследование Энгельса, посвященное положению рабочего класса в Англии, его малоизвестные работы по проблемам войны и мира, становления и развития европейской социал-демократии и др.
Следует отметить, что материалистическое понимание истории было важнейшей частью их более общего диалектико-материалистического мировоззрения, которое, на мой взгляд, Маркс и Энгельс сознательно разрабатывали на протяжении всей своей жизни. Они были уверены, что в будущем обществе, где с необходимостью исчезнут социальные антагонизмы, наука о человеке органически включит в себя естествознание, а естествознание – науку о человеке: это будет одна наука. Возможно, у них был некий совместный план разработки такого мировоззрения, возникший еще в молодости во время их совместной работы над критикой различных представителей немецкой идеологии. Этот план касался выработки целостной и открытой в будущее (в отличие от Гегеля) мировоззренческой системы. Об этом свидетельствует их своеобразное разделение труда друг с другом. Один занимается философией, другой – политэкономией, один, например, сосредоточивается на проблемах истории первобытного общества, другой – на проблемах современности. При этом они часто меняются местами в разработке той или другой проблемы своего мировоззрения.
Марксистское мировоззрение называют по-разному – диалектико-материалистическим, коммунистическим, научно-социалистическим или гуманистическим. При этом ясно одно: эти названия – лишь стороны единого философско-исторического взгляда на мир и развитие человечества, принадлежащего как Марксу, так и Энгельсу. По сути дела, это единый обобщающий взгляд на природу, общество и историю, то есть на прошлое, настоящее и будущее человечества. Нельзя исключать, что, будучи учениками Гегеля, Маркс и Энгельс хотели повторить его духовный подвиг на новом, уже материалистическом основании, то есть поистине перевернуть его философскую систему «с головы на ноги». Не случайно современники, которые сталкивались с Марксом и Энгельсом, поражались глубине и необычности их взглядов. На самом деле, если вы поставите в один ряд «Диалектику природы» Энгельса, его «Происхождение семьи, частной собственности и государства», труды по истории социализма, сюжеты Маркса, связанные с подготовкой и написанием «Капитала», его работы по исследованию русской общины, тексты, анализирующие мировое революционное движение, его «Критику Готской программы», то в сознании возникает грандиозная картина целостной системы совершенно нового и небывалого доселе научного мировоззрения, которое до сих пор оказывает свое глубокое влияние на сознание миллионов людей.
Принято считать, что Маркс и Энгельс, осмысливая мировую историю, доказали историческую необходимость наступления коммунизма, представив его в качества идеала общественного развития и «конечной цели» рабочего движения. Это на самом деле так. Только понимание этого идеала и этой цели в литературе не всегда трактуется адекватно их мировоззрению. Так, в общественном сознании достаточно распространенно сугубо вульгарное экономическое понимание коммунизма как «совместного владения имуществом» на основе тотального господства государственной собственности, или как высшего развития сугубо потребительского общества, ценностями которого сегодня так увлечено большинство средств массовой информации и коммуникации.
Однако, как уже говорилось, такое понимание грядущего общества весьма далеко отстоит от марксистской трактовки его как «реального» или «практического» гуманизма, как преодоления всех видов социального отчуждения и создания подлинно свободного общества, в котором, говоря философским языком, общественная сущность и существование человека совпадают, где люди не противостоят, а дополняют друг друга. В отличие от современного буржуазного общества, где все продается и покупается, Маркс и Энгельс говорили о совершенно ином, а именно о свободном обществе, основанном не на корысти и денежных отношениях, а на сугубо творческих и человеческих отношениях между людьми.
Как свидетельствует история, не все, считающие себя коммунистами, соглашались с такой трактовкой будущего общества. Например, Сталин, читая книгу Г. Александрова «Философские предшественники марксизма», обратил внимание на цитируемые в ней слова Маркса о коммунизме как «присвоении человеческой сущности человеком и для человека». В этой связи он написал на полях книги: «К чему эта цитата?», «К чему это?». И эти вопросы были не случайны: вся практика сталинизма была во многом решительным отрицанием гуманистического идеала как неактуальной цели рабочего класса. Но именно о ней писал Маркс, доказывая, что только эмансипация человека от всех видов социального отчуждения может реализовать идеал «свободного человеческого общества». Говоря о такой эмансипации, Маркс подчеркивал, что ее суть «состоит в том, что она возвращает человеческий мир, человеческие отношения к самому человеку»[26].
Как в истории перейти к такому обществу? Было бы очень удобно и безопасно мыслить такой переход автоматически и бесконфликтно. Многие сторонники эволюционизма так его и мыслят, ссылаясь в том числе на Маркса, который неоднократно говорил об «отрицании капитала в рамках капитала». Однако подобная трактовка постепенного превращения капиталистической системы в ее противоположность, на мой взгляд, по меньшей мере поверхностна. Говоря о «самоотрицании капитала», Маркс имел в виду прежде всего либо вытеснение физического труда из сферы производства и замену его машинами, либо появление акционерного капитала, когда наемные работники становятся его ассоциированными собственниками. Но в том и другом случае он хорошо сознавал, что при этом частнокапиталистическое производство остается господствующим, даже несмотря на экономические кризисы, которые его потрясают.
Конечно, никакие экономические кризисы сами по себе не могут изменить социальную природу буржуазного общества. Это дело людей, а не анонимных технологических или экономических сил. История есть результат деятельности людей, создающих и изменяющих свои общественные отношения. Последние никогда не изменятся, если их не изменят сами люди, либо путем революции, либо путем реформы. Причем реформа нередко становится побочным продуктом революции или ее предпосылкой.
В последнее время наметилось стремление интерпретировать поздних Маркса и Энгельса как своеобразных оппортунистов, полностью отказавшихся от революции. Однако подобной метаморфозы у них никогда не было. Они, являясь последовательными сторонниками диалектического взгляда на историю, никогда не отказывались от революции как способа завоевания политической власти. Допуская возможность перехода власти в руки пролетариата путем демократических выборов, Маркс и Энгельс исходили из того, что это будет возможно только тогда, когда буржуазия осознает бесполезность сопротивления революционному классу ввиду его превосходства в силе. Но в этом случае переход власти из рук буржуазии в руки рабочих также является революцией, но только мирной по форме.
Насколько эта уверенность основателей марксизма оправдалась реальной историей? Ответить на этот вопрос непросто: необходим тщательный анализ всех социальных завоеваний и потерь, происшедших в мире за последние сто с лишним лет. На мой взгляд, нет сомнения в одном: общее направление мировой истории, указанное ими, оказалось верным. Это подтверждается не только социальными революциями прошлого, не только существованием стран «реального социализма», но и многими современными процессами в капиталистических странах, происходящими, например, в Латинской Америке. Есть и другие доказательства: например, никто не может опровергнуть истину о том, что в современном глобальном мире, и особенно в его наиболее развитой части, рабочий день законодательно сокращен до восьми и менее часов, продолжается движение ко всеобщей интеграции, автоматизации и информатизации производства, нарастают тенденции социализации общественной жизни и интеграции разных стран и народов. Все большее значение в общественной жизни сегодня приобретают научные знания, которые, обладая всеобщим характером, противоречат господствующим буржуазным отношениям.
Все вышеназванные тенденции, предсказанные Марксом и Энгельсом, настоятельно требуют сегодня контроля со стороны гражданского общества за стихией рынка и движением капиталов, сознательного отношения к природе, исключения войн из жизни человечества, преодоления всех форм социального, национального и духовного порабощения и отчуждения людей. Реализация этих требований и означает движение истории человечества к подлинно социалистическому и гуманистическому обществу.
Марксистское мировоззрение, у истоков которого стояли Маркс и Энгельс, сегодня продолжает оставаться предметом острой критики не только со стороны его идейных противников, но и его бывших друзей. Они, как уже говорилось, пытаются противопоставлять друг другу не только взгляды Маркса и Энгельса, но взгляды раннего и позднего Маркса[27]. Скажу откровенно, я противник подобных во многом легковесных противопоставлений. Достаточно, например, сравнить сюжеты о деньгах и капитале в ранних «Экономико-философских рукописях» Маркса с аналогичными местами в «Капитале», чтобы понять одно: существенных противоречий в творчестве раннего и позднего Маркса нет[28]. Постоянно развиваясь, мировоззрение Маркса в его основных положениях не претерпело и не могло претерпеть радикального изменения, ибо сохранялась, по сути своей, та действительность, которую оно отражало. Что касается различий во взглядах Маркса и Энгельса, то они, конечно, существуют, но не имеют, на мой взгляд, принципиального характера. Особенно наглядно об этом свидетельствует их переписка, в которой они нередко поправляют и развивают взгляды друг друга по наиболее сложным проблемам современной им науки.
К сожалению, в последнее время среди некоторых западных исследователей творчества Маркса и Энгельса стало модным говорить не только о различиях их теоретических взглядов, но и о их якобы пагубном влиянии на политику большевиков в России. Так, в частности, в работах современного шведского социолога Пера Монсона прямо говорится о правомерности постановки вопроса: «…В какой степени разработанные Марксом теоретические и политические идеи могли быть использованы его последователями для оправдания захвата власти во время русской революции в 1917 году, а затем для того, чтобы убить миллионы людей – как реальных, так и воображаемых противников режима?»[29].
И этот вопрос ставится несмотря на то, что между идеями основателей марксизма и политикой российских большевиков в XX веке лежит целая историческая эпоха качественно различных преобразований западного и российского общества, не говоря уже о принципиальной противоположности самих политических взглядов Маркса и Энгельса с одной стороны и Сталина с другой. Опыт истории показывает, что известное латинское выражение post hoc ergo propter hoc («после этого, поэтому из-за этого») применительно к данному вопросу является не столько истиной, сколько очевидным заблуждением.
Не менее спорным является попытка П. Монсона и тех авторитетов, на которые он ссылается, доказать принципиальное различие, даже противоположность философских, исторических и политических взглядов Маркса и Энгельса. По их выражению, Маркс и Энгельс не только никогда не были интеллектуальными «близнецами», но и использовали сугубо разные принципы и методы обоснования исторических явлений. Так, с их точки зрения, Энгельс был подвержен влиянию естественных наук, определенному позитивизму и схематизму в трактовке истории, а Маркс больше склонялся к общественным наукам и гуманитарным средствам познания общественно-исторических явлений и процессов. Энгельс искал философские основания марксистского мировоззрения в общих законах развития природы[30], а Маркс предпочитал познавать и осмысливать сугубо специфические законы движения человеческой истории. При этом Монсон и его коллеги уверены, что именно Энгельс в итоге не только сформулировал само понятие «марксизм», но и предвосхитил плехановскую трактовку «диамата» как мировоззренческую основу марксизма. Позднее эту трактовку использовали Ленин и Сталин. Последний ее применил, например, при написании главы по философии в «Кратком курсе истории ВКП(б)».
Если отвлечься от определенного отождествления Монсоном таких разных людей, как Каутский, Плеханов, Ленин и Сталин, то можно увидеть, что вышеприведенная им интерпретация творчества Маркса и Энгельса по большому счету не выдерживает критики. Она, по сути дела, является не только односторонней и тенденциозной, но и полностью противоречащей тому, что говорили и писали сами Маркс и Энгельс об их общем диалектико-материалистическом мировоззрении и политических взглядах друг друга.
На мой взгляд, при внимательном изучении мировоззрения Маркса и Энгельса невозможно найти тех существенных научных различий, о которых говорит П. Монсон и такие его авторитеты, как Jones, Lichtheim, Vollgraf, White, Carver и др., к которым он часто отсылает читателя в своей статье.
В этой связи хочется заметить, что, обсуждая проблему единства мировоззрения Маркса и Энгельса, нельзя игнорировать (а именно это делает Монсон и его коллеги) тот исторический факт, что они, как уже было отмечено, с молодых лет были соавторами многих работ, в которых вырабатывалось их общий взгляд на историю. Достаточно для этого назвать «Святое семейство», где они во многом определили свое место в истории философии, ту же «Немецкую идеологию», в которой они путем критики господствующей тогда немецкой идеологии обосновали свой общий диалектико-материалистический взгляд на историю, наконец, их известный «Манифест Коммунистической партии», где они в глубокой и яркой публицистической форме представили свои общие социально-политические взгляды, связав их с деятельностью рабочего класса и появившейся тогда Коммунистической партией.
Хочется подчеркнуть, что на протяжении всей своей жизни и деятельности Маркс и Энгельс, углубляя и развивая свои философские, экономические и политические взгляды, никогда не отказывались от их общего мировоззрения, зародившегося в первой половине XIX века. Мало того, они активно использовали его в качестве методологической основы в своих конкретных научных исследованиях. Доказывать сегодня обратное, на мой взгляд, значит отказываться от таких важных доказательств и аргументов в осмыслении их творчества, как совместно написанные работы, их взаимная переписка и общие политические заявления.
Как уже отмечалось, Маркс и Энгельс с первых лет своего знакомства были учениками и последователями Гегеля. Заимствовав у него диалектический метод познания, они с его помощью стремились развивать общее им диалектико-материалистическое мировоззрение. При этом они не останавливались перед критикой Гегеля, когда тот, как идеалист, явно упрощал понимание природных процессов, сводя их, например, к сугубо механическим закономерностям, или видел конец мировой истории в создании явно идеализированного им Прусского государства. В итоге они в своих исследованиях материалистически полностью переработали гегелевскую диалектику, что позволило им добиться выдающихся результатов в познании и объяснении сложнейших процессов развития природы, общества и истории. Во всяком случае, без знания метода материалистической диалектики нельзя понять ни «Капитал» Маркса, ни «Диалектику природы» Энгельса.
Достаточно сказать, что благодаря материалистической диалектике Энгельсу удалось объяснить скрытую в то время от глаз многих естествоиспытателей специфику и взаимосвязь форм и процессов материального мира, проследить логику их движения от простейших механических закономерностей до сложнейших явлений и закономерностей органического и социального мира. Как известно, эти исследования нашли свое отражение не только в его «Диалектике природы», но и в таком полемическом произведении, как «Анти-Дюринг», в котором, между прочим, целая глава принадлежит Марксу. Характерно, что эти работы Энгельса принципиально отличны от соответствующих исследований, например, Дюринга, Бернштейна и Каутского, испытавших на себе на самом деле большое влияние позитивизма. В то же время, на мой взгляд, нет никаких оснований приписывать позитивизм работам Энгельса, как это делается в статье Монсона[31]. Во всяком случае, Энгельс никогда не говорил и не мог говорить, что законы развития истории являются всего лишь «специальными законами тех законов, которые действуют в природе»[32].
По моему мнению, не следует также думать, что Маркс, как гуманитарий, был в какой-то мере равнодушен или не разделял увлечение Энгельса естественными науками и диалектикой природы[33]. Их большая и интересная переписка по поводу актуальных проблем современного им естествознания, в частности по поводу оригинальных идей, которые возникли у Энгельса утром 30 мая 1873 года, полностью противоречит тому, что утверждает Монсон[34].
Дело в том, что не только Энгельс, но и Маркс часто интересовался проблемами и достижениями в области естественных и математических наук. Достаточно прочитать в этом плане его многочисленные ссылки на работы естествоиспытателей в «Капитале». Он сам на протяжении многих лет увлекался высшей математикой. Об этом убедительно свидетельствуют его малоизвестные «Математические рукописи», в которых он, по мнению современных специалистов, представил свое оригинальное диалектическое прочтение анализа бесконечно малых величин[35]. Следует заметить, что результаты этих исследований он, как правило, обсуждал с Энгельсом. Не случайно последний хотел их опубликовать после кончины Маркса.
Материалистическая диалектика, являясь эвристическим методом познания Маркса и Энгельса, вопреки современному мнению ее критиков, ничего общего не имела и не могла иметь с вульгарным советским «диаматом», который с помощью своих абстрактных и формальных категорий стремился обобщать и объяснять достижения различных естественных наук. По-своему возродив негативные стороны натурфилософии и метафизики, такой «диамат» не столько помогал, сколько мешал естествоиспытателям создавать адекватную научную картину мира. Видимо, отсюда у них и стало популярным известное выражение: «Физика, бойся метафизики!».
Общепризнанный характер марксизма как единого мировоззрения, разработанного Марксом и Энгельсом, в последнее время вновь стал ставиться под сомнение. Так, Пер Монсон и его коллеги на Западе (есть их сторонники и в России) полагают, что нельзя говорить о каком-либо едином мировоззрении Маркса и Энгельса. Они уверены, что поскольку философские основы марксизма больше развивал Энгельс, чем Маркс, например в «Диалектике природы», то начиная с 1890 года это мировоззрение или идеология «является скорее созданием Фридриха Энгельса, чем Карла Маркса». Отсюда, мол, и термин «энгельсизм» является гораздо более метким», чем «марксизм»[36]. Во-вторых, по их мнению, сам термин «марксизм» принадлежит не Марксу, а Энгельсу, который ввел его в оборот якобы уже после смерти Маркса[37]. Наконец, в-третьих, понятие «марксизм» не может быть их общим мировоззрением в силу различного понимания ими хода мировой истории, в частности имеющего непосредственное отношение к истории России и судьбе ее земледельческой общины.
Следует отметить, что в качестве доказательства последнего тезиса используется действительно имеющееся расхождение взглядов Маркса и Энгельса на роль и будущее русской общины в условиях становления российского капитализма.
В чем же заключалась особенность точки зрения Энгельса по данному вопросу? Исходя из того, что Россия в XIX веке уже вступила в эпоху капиталистического развития, Энгельс считал, что русская община была обречена на вымирание. По его мнению, шанс на выживание у нее мог появиться лишь в том случае, если на Западе, а затем и в России произойдут антибуржуазные революции. Таким образом, он считал, что историческая судьба русской общины будет целиком зависеть от ближайших успехов социалистической революции на Западе.
Иной позиции по этому вопросу придерживался Маркс. Он полагал, что у русской общины все-таки есть определенный шанс миновать капитализм, став «отправной точкой» социалистических преобразований, прежде всего в самой России. По его мнению, этот вывод был обусловлен историческим своеобразием самой русской общины, которая, в отличие от аналогичных архаических общин Западной Европы, сумела сохраниться в национальном масштабе.
При этом Маркс был против тех, кто пытался оправдывать ее историческое исчезновение ссылками на его теорию зарождения и развития капитализма, которую он представил в первом томе «Капитала». Здесь следует сослаться на его написанный в 1877 году непосланный ответ одному из критиков «Капитала» в журнал «Отечественные записки». Из этого ответа следует, что он был не согласен прежде всего с теми, кто видел в его очерке о первоначальном накоплении капитала, представленном в «Капитале», «историко-философскую теорию общего развития», которая может применяться «ко всем народам независимо от того, в каких исторических обстоятельств они находятся»[38]. По его мнению, такая «надысторическая» точка зрения не помогала, а мешала понять особенности российской действительности, включая своеобразие русской общины.
Исходя из этих слов, современные критики марксизма утверждают, что якобы Маркс в конце своей жизни пересмотрел свою концепцию мировой истории, которая была им сформулирована в его знаменитом предисловии к первому изданию «Капитала». При этом они совершенно не учитывают других важных слов Маркса из его ответа автору «Отечественных записок», свидетельствующих о том, что позиция Маркса по проблеме русской общины была далеко не однозначной. Вот эти слова: «…Если Россия продолжит идти по пути, взятому в 1861 году, то она упустит удобный шанс, когда-либо данный нации историей, и вместо этого будет вынуждена подчиниться всем роковым переменам капиталистического режима»[39].
Рассмотрим более подробно данную неоднозначную ситуацию, связанную с научным пониманием Маркса русской общины, к которой Маркс позднее специально вернулся в известном письме к Вере Засулич. Это понимание, на мой взгляд, имеет сегодня не только большую методологическую, но и политическую значимость[40].
В этой связи напомню: в своем предисловии к первому тому «Капитала» Маркс говорил, что на примере Англии можно проследить все стадии становления и развития капиталистического способа производства, через которые рано или поздно пройдут многие страны, включая Германию, Францию и др. государства Западной Европы. При этом он пояснял: «…Если немецкий читатель захочет фарисейски пожать плечами по поводу условий британских промышленных и сельскохозяйственных рабочих или оптимистично успокоить себя тем, что в Германии все еще не так плохо, то я должен сказать ему: de te fabula narrator! (о тебе речь идет)… Промышленно развитая страна показывает менее развитой лишь картину ее собственного будущего»[41].
Как известно, эту теорию общих закономерностей развития истории Маркс развивал и в других своих работах, начиная с Манифеста Коммунистической партии и кончая французским изданием «Капитала». Тем не менее идеологи народничества в России, при всем их уважении к научному авторитету Маркса, не могли принять теории о неизбежности прохождения Россией капиталистического пути развития, приносящего, по опыту западных стран, невиданные бедствия для трудящихся, и прежде всего для русских крестьян. По их мнению, Россия, в которой сохранилась община, охватывающая собой сотни тысяч крестьянских хозяйств, могла и должна была на практике избежать капиталистической стадии развития. Более того, они видели в русской общине прообраз будущего социалистического строя. Поэтому они решили узнать личное мнение Маркса по данному вопросу. С этой просьбой и обратилась к Марксу Вера Ивановна Засулич, написав в феврале 1881 года ему соответствующее письмо.
Ответ Маркса от 8 марта 1881 года был лаконичен. Вот его содержание:
«…Достаточно будет нескольких строк, чтобы у вас не осталось никакого сомнения относительно недоразумения по поводу моей мнимой теории.
Анализируя происхождение капиталистического производства, я говорю: „В основе капиталистической системы лежит, таким образом, полное отделение производителя от средств производства… основой всего этого процесса является экспроприация земледельцев. Радикально она осуществлена пока только в Англии… Но все другие страны Западной Европы идут по тому же пути“ („Капитал“, франц. изд., стр. 315). Следовательно, „историческая неизбежность“ этого процесса точно ограничена странами Западной Европы.
Причины, обусловившие это ограничение, указаны в следующем месте XXXII главы: „Частная собственность, основанная на личном труде… вытесняется капиталистической частной собственностью, основанной на эксплуатации чужого труда, на труде наемном“[42].


