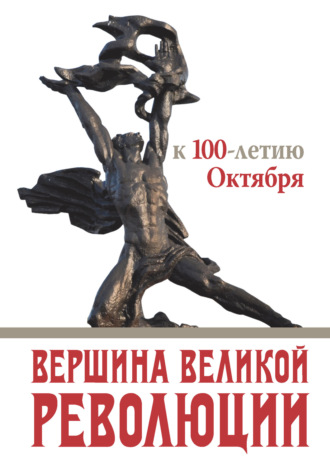
Коллектив авторов
Вершина Великой революции. К 100-летию Октября
Итак, генералы Алексеев, Брусилов и Рузский, подтвердив свою верность присяге, высказали Николаю II мнение о том, что ему следует назначить правительство из лиц, которым доверяет страна. Отметим, что указанные генералы, вопреки субъективному мнению некоторых историков, не участвовали ни в каких масонских организациях. Царь в совете военачальников измены не видел, поскольку получал такие советы от своего окружения в течение всей зимы. Он чувствовал себя уверенно и направил премьеру Н. Д. Голицыну телеграмму: перемены в составе правительства «при данных обстоятельствах считаю… недопустимыми»[183].
Однако вечером 27 декабря из Питера приходят уже панические телеграммы с просьбой прислать войска, и царь отдает приказ отправить в столицу батальон георгиевских кавалеров во главе с генералом Н. И. Ивановым, придав ему в помощь надежные части и пулеметные команды с Западного и Северного фронтов. Генералы М. В. Алексеев, А. Е. Эверт и Н. В. Рузский немедленно делают необходимые распоряжения. Все телеграммы, которыми обменивались военачальники в эти дни, сохранились и ясно показывают ситуацию[184].
В час ночи уже наступившего 28 февраля царь получает телеграмму от жены: «Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции. Аликс»[185]. Никто из сторонников версии об измене не думает обвинять в этом царицу, которая, с задержкой в несколько часов, пришла к тому же выводу, что и генералы Брусилов, Алексеев, Рузский. Однако и после этого царь не готов уступить. Он принимает решение рано утром 28 числа самому выехать в Царское Село, рассчитывая опереться на войска Н. И. Иванова. Он дает распоряжение дополнительно усилить группировку карательных войск за счет надежных частей Юго-Западного фронта. Таким образом, царь вновь сделал ставку на силовое подавление революции.
Дальнейшие события зависели от успеха или неуспеха карательной миссии Н. И. Иванова. Его батальон покинул Могилев 28-го в десять часов утра и вечером уже проехал Витебск, двигаясь по варшавско-петроградской линии. Далее продвижение замедлилось, так как днем 28 февраля начальники ж.-д. станций, которые имели свою телеграфную сеть, получили телеграмму инженера-путейца члена Государственной Думы А. А. Бубликова о том, что власть в столице перешла в руки Государственной Думы. Фактически именно из этой телеграммы страна узнала о случившейся революции[186]. Приказа об остановке войск, следующих на Питер, в телеграмме не было, но служащим и рабочим железных дорог стало понятно, зачем идут войска в столицу, и они начитают тормозить это движение. Тем не менее вечером 1 марта Н. И. Иванов со своим отрядом прибывает в Царское Село, где получает телеграмму от генерала Алексеева, посланную еще в ночь на 1 марта. Алексеев советует Иванову не торопиться применять силу, поскольку из Питера поступили сведения, говорящие о возможности найти компромисс с Думой, «дабы избежать позорной междоусобицы, столь желанной нашему врагу»[187]. Алексеев просит передать это царю, который тоже должен был уже добраться до Царского села. Поезд царя двигался по Николаевской железной дороге с тем, чтобы не мешать переброске войск с Северного фронта через Лугу.
Однако царь до Царского села не добрался. Рано утром 1 марта в Малой Вишере он получил сведения о том, что Любань занята революционными войсками, и приказал повернуть в Псков, в штаб Северного фронта, куда и прибыл к вечеру. И здесь его ожидали телеграммы из Ставки от Алексеева и от командующих фронтами, позиции которых менялись в течение этого первого мартовского дня под воздействием меняющейся обстановки.
В первой половине дня 1 марта начальник штаба Ставки генерал Лукомский имел информацию о том, что войска на Питер идут исправно: «Согласно полученных донесений, из числа войск, отправленных 1) с Северного фронта – Лугу прошли 3 эшелона, 4 эшелона находятся между Лугой и Псковом, остальные между Псковом и Двинском; 2) с западного фронта – прошли Полоцк 4 эшелона 2-го Донского казачьего п., прочие эшелоны этого полка и 2-й Павлоградский гусарский полк – между Полоцком и Минском. Посадка в Минске закончена. Из Сенявки отправлено 5 эшелонов, осталось отправить – 2 эшелона»[188]. Слаженное движение эшелонов на Питер определило реакцию командующих на полученную ими утром 1 марта упомянутую телеграмму М. В. Родзянко о том, что «ввиду устранения от управления всего состава бывшего Совета министров правительственная власть перешла в настоящее время к Временному комитету Государственной Думы»[189]. Никто из высших военачальников не выразил Временному комитету своей поддержки. Более того, около 11 часов дня Алексеев отправил Родзянко телеграмму, в которой заявил, что «высшие военные чины и армия в массе свято исполняют долг перед царем и родиной согласно присяге». Он потребовал от Родзянко «оградить армию от вмешательства… недопустимого по нашей военной организации и принесенной присяге», прямо указав на «ваши телеграммы ко мне и к главнокомандующим, а также распоряжения, отдаваемые по железным дорогам театра военных действий»[190]. Одновременно Алексеев направляет телеграмму царю, в которой предлагал ему сделать выбор: «Если Ваше Величество считает невозможным идти путем уступок Думе, то необходимо установление военной диктатуры и подавление силой революционного движения»[191].
Днем ситуация изменилась: Алексеев получил известие о том, что Москва и московский гарнизон признали власть ВКГД, а затем пришло известие о том, что и Балтийский флот «с согласия командующего флотом перешел на сторону Временного комитета»[192]. Это означало, что войска надо отправлять против обеих столиц и посланные с фронта части получат отпор. Следовательно, страна окажется в состоянии гражданской войны. Именно к такому выводу пришел генерал М. В. Алексеев, который в четыре часа дня новой телеграммой просит царя пойти на уступки: «Подавление беспорядков силою при нынешних условиях… приведет Россию и армию к гибели»[193].
К концу дня 1 марта провал карательной экспедиции стал окончательно ясен. Помимо батальона Иванова из всех посланных с фронта полков только один 68-й Тарутинский полк достиг предписанного пункта и находился на станции Александровская вблизи Царского Села. Другие части не торопились двигаться на Петроград, получая от железнодорожников сведения о победе революции, а железнодорожники в свою очередь получали приказы не пропускать военные эшелоны на Петроград. Таким образом, в действующей армии царь столкнулся не с открытым восстанием, а с тихим саботажем приказа идти на Петроград. Сведения о том, что во главе событий в Петрограде стоит Дума, останавливали офицеров, побуждая их занять выжидательную позицию, а солдаты во многих случаях открыто радовались известию о революции, связывая с ней надежды на перемены к лучшему.
В ночь на 2 марта Алексеев присылает царю еще одну телеграмму, предлагая немедленно издать Манифест о даровании «ответственного министерства», возложив образование его на Родзянко: «Поступающие сведения, – докладывает Алексеев, – дают основание надеяться на то, что думские деятели, руководимые Родзянко, еще могут остановить всеобщий развал и что работа с ними может пойти. Но утрата всякого часа уменьшает последние шансы на сохранение и восстановление порядка и способствует захвату власти крайними левыми элементами»[194].
И только теперь царь соглашается. При этом вначале он попытался ограничиться формированием «министерства доверия» во главе с Родзянко, оставив себе право назначать министров иностранных дел, военного и морского. Однако Рузский убедил царя согласиться на «ответственное министерство»[195]. К утру 2 марта царь решает объявить соответствующий Манифест, приказывает отряду генерала Н. И. Иванова вернуться в Ставку и прекратить продвижение к столице других фронтовых частей[196].
По поручению царя генерал Н. В. Рузский в три часа утра связывается по прямому проводу с М. В. Родзянко и информирует его о принятых решениях. Однако тот отклоняет идею Манифеста как запоздалую, указав на то, что в Петрограде «династический вопрос поставлен ребром», и «грозное требование отречения в пользу сына, при регентстве Михаила Александровича, становится определенным требованием». Позиция Родзянко отражала то решение, которое было принято накануне вечером на заседании членов Временного комитета Государственной Думы и Исполкома Совета Р. и С. Д. И это решение прошло с трудом, так как лидеры Петросовета в принципе выступали против сохранения монархии.
Генерал Н. В. Рузский докладывает результаты переговоров с М. В. Родзянко царю и генералу М. В. Алексееву в Ставку. Алексеев направляет эту информацию главнокомандующим фронтами и просит высказать свое мнение непосредственно царю. Алексеев отмечает необходимость согласия в среде командующих и прямо дает понять, что считает отречение неизбежным. Все главнокомандующие приходят к выводу о том, что царь должен отречься. Ознакомившись с их мнением, царь соглашается на отречение[197].
Анализ всех действий Алексеева и главнокомандующих фронтами 1-го и 2 марта говорит о том, что они логично вытекали из меняющейся обстановки. Еще утром 1 марта они четко выполнили все указания по отправке войск в Петроград, Алексеев предлагал царю установить военную диктатуру, но после того как стали известны события в Москве и на Балтфлоте, они высказались сначала за введение «ответственного министерства», а затем, когда Петроград потребовал отречения царя, высказались за отречение. Принятое главнокомандующими решение было вполне рациональным и отвечало национальным интересам, хотя и ущемляло интересы Николая II: оно спасало Россию от начала гражданской войны. Никакого заговора в их действиях не просматривается. Генералы не действовали по предварительному сговору. Никто из них не был масоном. Нет в их действиях и измены. Решение об отречении принимал сам царь. Генералы лишь выразили свое мнение. В момент принятия решения об отречении Николай II имел возможность не согласиться с мнением главнокомандующих. В частности, он мог отстранить Н. В. Рузского, назначить другого командующего Северным фронтом и сам повести войска на Петроград. Однако царь этого не сделал, понимая весь риск такой операции для себя лично. Начало гражданской войны создавало реальную опасность и для семьи царя, находившейся в Царском Селе, и прежде всего для царицы, которую многие оппозиционеры считали виновницей всех бед. Царь хорошо помнил историю Английской и Французской революций, сопровождавшихся казнью свергнутых монархов.
В своем Манифесте Николай II назвал в качестве причин отречения те самые соображения, которыми руководствовались генерал М. В. Алексеев и командующие фронтов: «в эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы».
Боясь за судьбу сына, а также, видимо, стремясь сделать свое решение юридически неправомерным, царь в последний момент отрекся за себя и за сына, не имея права на последнее. Николай II передал трон брату Михаилу. Такое решение давало возможность Алексею заявить о претензиях на трон при благоприятных условиях.
Однако из этого плана ничего не вышло. Великий князь Михаил, видя вооруженных солдат и рабочих на улицах столицы и зная о негативном отношении Совета рабочих и солдатских депутатов к сохранению монархии, отказался принять трон до решения Учредительного собрания. Таким образом, монархия пала в России не в результате заговора, а в результате давления рабочих и солдат Петрограда, которые получили поддержку всей страны.
Вечером 2 марта царь не только подписал Манифест об отречении, но и по просьбе приехавших А. И. Гучкова и В. В. Шульгина, посланцев ВКГД, подписал более ранней датой указ о назначении князя Львова главой правительства. Пришедшие к власти либералы получили от царя легальную основу для формирования Временного правительства и консолидации власти. То, как они распорядились этой властью, уже другая история.
В. Калашников
Пролог: от Февраля к Октябрю
Историографическое предисловие. Три основных направления, существующие в историографии Февральской революции, продолжают себя и в трактовке истории Октября. Это связано с тем, что Русская революция 1917 года представляет собой единый процесс, в основе которого лежала борьба народа за мир и землю. Февраль эти вопросы не разрешил, и Октябрь стал финалом драмы, начатой Февралем.
В советской историографии подчеркивалась историческая необходимость Октября как события, которое обеспечило народам России возможность ускоренного развития и ликвидировало опасное отставание от Запада. Историки либерального толка оценивают Октябрь как негативное событие по той причине, что он закрыл «февральский» путь развития России. Историки-«традиционалисты», которые отрицают историческую необходимость Февральской революции, тем более не могут признать необходимость Октября.
В постсоветский период на первый план вначале выдвинулась либеральная трактовка. Однако результаты либеральных реформ, отбросивших страну далеко назад, обусловили расцвет неоконсерватизма и традиционализма, хотя уроки истории не дают тому оснований. Весь постсоветский период страна живет оборонным, экономическим, научным, культурным потенциалом, созданным под знаменем Октября. Постсоветский период – эпоха социального регресса. С этим итогом страна и пришла к столетнему юбилею Октября. Из него и вытекает ответ на главный вопрос: о значении Октябрьской революции с точки зрения объективных потребностей развития России в XX веке. Отметим: оценка исторического значения Октября в мировой историографии всегда зависела от ретроспективы, в которую ее ставили последующие события[198].
Что касается трактовки непосредственной истории революционного 1917 года, то советские историки обосновывали тезис, согласно которому в условиях, когда 15 млн рабочих и крестьян имели оружие в руках, а вера в авторитет власти была разрушена свержением трехсотлетней монархии, победить должна была партия, готовая выполнить требования народа. Народ требовал закончить империалистическую войну, дать землю тем, кто ее обрабатывает, устранить огромное социальное неравенство, превратить Российскую Империю в добровольный союз тех, кто живет на ее территории. Советские историки подчеркивали, что эти требования носили рациональный характер, отражали конкретный опыт масс, и их выполнение создавало базу для дальнейшего успешного развития России.
В постсоветский период ряд историков встали на путь пересмотра этого тезиса. Пересмотр не стал результатом накопления новых научных знаний. Он был вызван сменой идеологических ориентиров. Как правило, речь шла об изложении «новым языком» старых версий о том, что в 1917 году народ не ведал, что творил, его требования были иррациональны и вели к «катастрофе», а большевики захватили власть, использовав «низменные инстинкты толпы». Тезис о «катастрофе» обосновывался ссылками на «позорный» характер Брестского мира и страшную цену Гражданской войны, вину за которую эти историки полностью возлагали на большевиков. Отметим, что либеральные историки склоняются к тому, чтобы трактовать победу большевиков как следствие ошибок Временного правительства всех составов. А «традиционалисты» полагают, что либералы были обречены на поражение, что и является аргументом в пользу тезиса о «порочности» всей Русской революции и «благотворности» самодержавного строя в России, который якобы всегда обеспечивал лучший вариант развития страны.
Сопоставим указанные историографические концепции с реальным историческим процессом. Канва событий революционного 1917 года хорошо известна, однако каждый историк по-своему их увязывает и интерпретирует, что и порождает авторскую концепцию истории революции.
Особенности постфевральской ситуации. Как было показано ранее, Февральская революция началась как стихийное восстание рабочих и солдат, которое было освящено авторитетом Государственной Думы. Однако Дума не смогла стать единственным центром власти. В февральские дни наряду с Временным комитетом членов Государственной Думы возник Совет рабочих и солдатских депутатов (Петросовет). В нем доминировали эсеры и меньшевики, сумевшие использовать авторитет своих думских фракций. Совет дал согласие либералам на формирование правительства, обещав поддержку при условии проведения демократических реформ. Решение Совета поддержать Временное правительство либералов было адекватно мартовской ситуации: оно обеспечивало возможность быстро закрепить победу Февраля. Армия и провинция дружно поддержали власть, сформированную всероссийским парламентом – Думой, а если бы власть перешла в руки Совета рабочих и солдатских депутатов Петрограда, то реакция фронта и провинции не была бы столь однозначной.
В то же время Приказом № 1 по Петроградскому гарнизону Петросовет поставил войска под свой контроль в политических вопросах. Приказ составлялся в солдатской секции Петросовета на основе требований беспартийных солдат, которые оформил «внефракционный» социал-демократ Н. Д. Соколов (по иронии истории, сын духовника царской семьи). Большевики не имели отношения к появлению Приказа. Современники, отмечая наличие у Совета реальной военной силы, назвали сложившуюся ситуацию двоевластием.
Программа первого правительства. После Февральской революции главной правительственной партией были кадеты. Премьером стал близкий к кадетам князь Г. Е. Львов, министром иностранных дел – кадет П. Н. Милюков, министром земледелия – кадет А. И. Шингарев. Первую программу действий правительство провозгласило в Обращении от 3 марта, согласовав ее с лидерами Совета. Правительство обещало провести амнистию, провозгласить политические свободы, устранить сословные и национальные ограничения, заменить полицию выборной милицией, готовить созыв Учредительного собрания[199].
В Обращении от 6 марта правительство изложило внешнеполитическую программу, высказавшись за продолжение войны «до победного конца» и выполнение соглашений, заключенных союзниками по Антанте[200]. С точки зрения либералов, это была логичная позиция: Антанта имела хорошие шансы на победу, которая сулила России существенные территориальные приобретения. Однако позиция либералов вызвала протест тех, кто нес на себе основные тяготы войны. В февральские дни наряду с лозунгом «Долой самодержавие» рабочие и солдаты Петрограда выдвигали лозунг «Долой войну». Петросовет наполнил лозунг конкретным содержанием, выпустив 14 марта Манифест «К народам всего мира» с призывом «начать решительную борьбу с захватными стремлениями правительств всех стран» и «взять в свои руки решение вопроса о войне и мире»[201]. Этот призыв быстро превратился в лозунг «мир без аннексий и контрибуций», который был принят Международной социалистической конференцией в Циммервальде в сентябре 1915 года.
Манифест Петросовета сыграл важнейшую роль в формировании антивоенной позиции рабочих и солдат, выдвинув понятную им цель: требовать от правительства заключения справедливого мира. Отказ сделать это разоблачал правительство и лишал его поддержки со стороны народа. Данное требование было привлекательным и потому, что носило антивоенный, но не пораженческий характер. Русский рабочий и солдат не шли за пораженческими лозунгами[202]. Отметим, что многие современники и историки возлагали ответственность за развал армии и срыв военных усилий России на большевиков. На самом деле антивоенная пропаганда большевиков носила вторичный характер и опиралась на то главное, что сделали умеренные социалисты: на Приказ № 1 и на Манифест о мире с требованием заключения мира без аннексий и контрибуций.
Столкнувшись с позицией Совета, правительство в Декларации от 27 марта заявило об отказе «от захвата чужих территорий» и выступило за «утверждение прочного мира на основе самоопределения народов». В то же время правительство говорило и о «полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников»[203].
Важно подчеркнуть, что требование остановить войну и заключить справедливый мир в конкретных условиях весны 1917 года не было утопией. Народы Европы устали от войны, и мирная инициатива со стороны правительства революционной России могла заставить правительства воюющих стран пойти на переговоры. Весной 1917 года этот план имел иные перспективы, чем весной 1918 года. Напомним, что 23 марта США вступили в мировую войну на стороне Антанты, выдвигая принципы самоопределения всех народов и отказа от аннексий. В Германии это требование поддержали депутаты рейхстага. Реагируя на них, канцлер Бетман-Гольвег 29 марта 1917 года сообщил рейхстагу о желании правительства достичь «мира, почетного для всех сторон»[204]. Это были только маневры, но они могли втянуть правительства воюющих стран в серьезные переговоры в случае давления со стороны правительства России, включая и угрозу выхода из войны. В 1917 году Антанта без России была обречена на быстрое поражение. А Россия вполне могла заключить сепаратный мир с Германией на выгодных условиях. Однако П. Н. Милюкова не зря прозвали «Дарданелльским»: кадеты не смогли отказаться от тех «призов», которые Антанта обещала Николаю II (Константинополь, черноморские проливы и др.). Они не собирались выполнять декларацию 27 марта. Позиция кадетов в вопросе о войне лишала их шансов сохранить власть в условиях революции.
К такому же результату вела и их позиция в аграрном вопросе. Воззванием от 19 марта правительство объявило о том, что берет на себя «разработку материалов земельного вопроса», который «должен быть решен путем закона, принятого народным представительством». Постановлением от 21 апреля создавались Главный земельный комитет, губернские, уездные и волостные земельные комитеты. Они и должны были готовить материалы к Учредительному собранию[205]. Кадеты знали о желании крестьян уравнительно переделить землю, но не могли пойти на столь радикальное нарушение прав частной собственности. Не видя пути решения аграрного вопроса, они стремились затянуть созыв Учредительного собрания.
Однако в марте все смотрелось в радужном свете. Народ верил в готовность правительства выполнять объявленную программу, тем более что она получила поддержку эсеро-меньшевистского большинства Совета.
Апрельский курс Ленина. После Февраля питерские большевики мыслили дальнейшее развитие революции в рамках стратегии, принятой III съездом РСДРП в 1905 году. Она ориентировала партию на осуществление пролетариатом руководящей роли (гегемонии) в демократической революции и завершение ее созданием Временного революционного правительства. Однако большевики отнюдь не рассчитывали и не претендовали на руководящую роль в этом правительстве. Даже вхождение большевиков в правительство не считалось обязательным. Они исходили из того, что задачей Временного революционного правительства станет созыв Учредительного собрания, в котором партия пролетариата не могла иметь большинства в силу социального (по преимуществу крестьянского) состава большинства избирателей. Идеи непосредственного перерастания демократической революции в пролетарскую в резолюциях III съезда не было, поскольку большевики не видели ни политической возможности, ни социально-экономических предпосылок для того, чтобы взять власть и строить социализм в отсталой России. В решениях съезда прямо говорилось о том, что демократический переворот «при данном общественно-экономическом строе не ослабит, а усилит господство буржуазии»[206].
Ленин в одной из работ 1905 года выдвигал тезис о «непрерывной» революции[207], но не как идею непосредственного перехода от одного этапа к другому в рамках одной революционной ситуации. Он прямо критиковал «нелепые полуанархические мысли о… завоевании власти для социалистического переворота»[208].
Исходя из установок III съезда РСДРП, Русское бюро ЦК большевиков в Манифесте от 27 февраля 1917 года призвало рабочих и солдат создать Временное революционное правительство[209]. В практическом плане это означало борьбу за переход власти в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. Отказ эсеро-меньшевистского большинства Совета взять власть сделал лозунг неосуществимым. Тогда Петербургский комитет (ПК) большевиков 3 марта принял решение «не противодействовать» Временному правительству буржуазии «постольку, поскольку его действия соответствуют интересам пролетариата и широких демократических масс народа»[210]. Такое решение не закрывало возможности развития революции по мере выявления нежелания правительства действовать в интересах народа.
Вернувшиеся в середине марта из ссылки члены ЦК Л. Б. Каменев и И. В. Сталин сделали шаг вправо от позиции ПК, проявив готовность вести переговоры с меньшевиками об объединении и преодолении раскола в РСДРП. Эта линия могла связать большевикам руки на будущее вследствие убежденности меньшевиков в том, что после Февраля власть должна оставаться у буржуазии. В вопросе о войне Каменев занял позицию, близкую по тону к «революционному оборончеству», призвав солдат на фронте отвечать врагу «пулей на пулю», но при этом требовать от правительства заключить мир без аннексий и контрибуций[211]. Каменев стремился снять с большевиков клеймо «пораженцев», которое ставил на них ленинский лозунг «поражения своего правительства». И эта линия имела свои плюсы.
Ленин, вернувшись 3 апреля в Россию, предложил новую стратегию: в рамках текущей революционной ситуации бороться за второй этап революции, который «должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства»[212]. За этим стояла задача поставить у власти партию большевиков. Цель взятия власти: осуществление переходных шагов к социализму в России и стимулирование революции в Европе.
Позиция Ленина оказалась неожиданной для лидеров большевиков. Л. Б. Каменев 8 апреля писал в газете «Правда»: «Что касается общей схемы т. Ленина, то она представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитывает на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую». Эта оценка говорит о том, что Каменев и Сталин, возглавлявшие в то время редакцию «Правды», не поняли сути ленинской стратегии переходных шагов.
Современники, а затем и многие историки, увидели в новой стратегии переход Ленина на позиции Парвуса – Троцкого, которые в 1905 году выдвинули лозунг «Без царя, а правительство рабочее»[213]. Тогда Ленин критиковал этот лозунг. Однако к 1917 году он пришел к внешне похожей, но иной в своей основе концепции развития революции, основанной на учете новых факторов:
– особенностей политической и социально-экономической ситуации в России, которые породила мировая война;
– опыта революции 1905 года, в ходе которой крестьяне требовали ликвидации частной собственности на землю.
В 1917 году вопросы о земле и мире становились главными вопросами русской революции, и они, по-особому переплетаясь, открывали для партии пролетариата возможность взять власть и осуществить переход к социализму в крестьянской стране.
Исходным фактором было крестьянское требование ликвидации частной собственности на землю. Такое требование выводило русскую революцию за буржуазные рамки. Именно с особенностями крестьянского менталитета Ленин связал возможность начать пролетарскую революцию в России. В марте 1917 года в «Письмах из далека» Ленин писал: «В России победа пролетариата осуществима в самом близком будущем лишь при условии, что первым шагом ее будет поддержка рабочих громадным большинством крестьянства в борьбе его за конфискацию всего помещичьего землевладения (и национализацию всей земли, если принять, что аграрная программа „104-х“ осталась по сути своей аграрной программой крестьянства)»[214]. Иными словами, победа пролетарской революции в России будет возможна лишь в том случае, если она совпадет с радикальной аграрной революцией, и именно пролетариат возглавит эту аграрную революцию, то есть даст крестьянам землю. Отметим, что, говоря о победе пролетариата, Ленин подразумевал, что этим пролетариатом руководит революционная партия, то есть большевики. Они-то и должны взять власть и решить аграрный вопрос в интересах крестьян.
А как же кадеты, меньшевики и эсеры? Какова их роль в революции? Почему кадеты не смогут удержать власть? Почему эсеры не дадут крестьянам землю, то есть не осуществят свою аграрную программу, принятую еще в 1906 году? Ответ Ленина на эти вопросы гласил: кадеты не пойдут на радикальную аграрную реформу, которая разрушает принцип частной собственности – основу буржуазного строя, и не откажутся от военных целей царизма, продолжат империалистическую войну; а эсеры и меньшевики в условиях войны не пойдут на разрыв с либералами и станут заложниками политики кадетов. Таким образом, успех новой стратегии зависел не только и не столько от действий большевиков, сколько от действий их политических конкурентов: кадетов, эсеров и меньшевиков. Именно они должны были открыть большевикам путь к власти своим отказом решать вопросы о земле и мире. Отметим, что Ленин уже 4 марта в Цюрихе, получив лишь самые скудные известия о событиях в России, правильно оценил политический потенциал соперников большевиков в борьбе за власть: «Новое правительство не может дать… народам России… ни мира, ни хлеба, ни полной свободы»[215].
Найдя механизм прихода большевиков к власти на фоне крестьянской революции, Ленин уже в мартовских письмах впервые излагает свою стратегию перехода к социализму в России: «В связи с такой крестьянской революцией и на основе ее возможны и необходимы дальнейшие шаги пролетариата в союзе с беднейшей частью крестьянства, шаги, направленные к контролю производства и распределения важнейших продуктов, к введению „всеобщей трудовой повинности“ и т. д.». Ленин отмечает, что «в своей сумме и в своем развитии эти шаги были бы переходом к социализму, который непосредственно, сразу, без переходных мер, в России неосуществим, но вполне осуществим и насущно необходим в результате такого рода переходных мер»[216].
Итак, переход к социализму в России «вполне осуществим» и «насущно необходим» «в связи» и «на основе» «крестьянской революции». Тезис о необходимости перехода к социализму Ленин ярко раскрыл осенью 1917 года, показав реальную альтернативу, пред которой стояла Россия в эпоху империализма: догнать развитые страны Запада или погибнуть. Акцент на эту цель по-иному раскрывает взгляд Ленина на соотношение русской и мировой пролетарской революции. Приверженность идее мировой революции часто затемняет патриотический характер ленинской стратегии. В общеевропейской революции он видел не самоцель, а важное условие для решения национальных задач. При этом главную ставку делал на внутренние факторы развития русской революции: на возможность соединить борьбу за мир и землю с борьбой за социализм. В этом и состояла суть новой стратегии.


