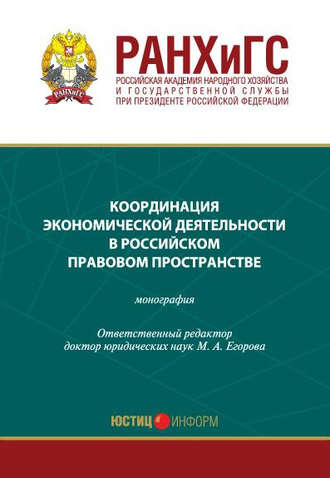
Коллектив авторов
Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве
Поэтому даже в случаях, когда наличествуют все признаки координации экономической деятельности, регламентированные п. 14 ст. 4 ЗоЗК, такая координация сама по себе еще не должна расцениваться в качестве антиконкурентного поведения. Но она приобретает признаки состава административного правонарушения в соответствии со п. 2 ст. 14.32 КоАП РФ только при условии доказанности наличия неблагоприятных последствий, соответствующих критериям, регламентированным в частях 1–3 ст. 11 ЗоЗК.
§ 4. Основания и формы координации экономической деятельности и критерии их систематизации
1. Основания координации экономической деятельности – это нормативные или индивидуальные средства-установления, определяющие форму и содержание действий субъектов координации экономической деятельности. Под правовым средством-установлением понимается нормативный (норма права) или индивидуально-правовой (соглашение, договор) регулятор общественного отношения, содержащий в своей структуре программу данного отношения. Правовая природа основания координации экономической деятельности определяет ее отраслевую принадлежность.
Норма права как общеобязательное средство-установление, исполняя роль основания координации экономической деятельности, в своей диспозиции содержит властно-правовой механизм (представляющий собой комплекс властных компетенций), который может быть реализован исключительно в одностороннем порядке уполномоченным субъектом права. Основу реализации этого механизма составляет властное полномочие. В соответствии с этим, такая норма права всегда имеет характер императивной нормы. Она не предполагает возможности изменения ни субъектного состава координационного правоотношения, ни содержания и состава властных полномочий уполномоченного субъекта. Отсутствие диспозитивной составляющей в таком общественном отношении не может позволить охарактеризовать его в качестве гражданско-правового. В данном случае имеет место общественное отношение типа «власть-подчинение», наиболее характерное для публичных отраслей права.
В этом смысле представляет интерес квалификация норм ФЗ о СРО, предполагающих необходимость обязательного саморегулирования. Согласно ч. 2 ст. 3 ФЗ о СРО федеральными законами может императивно предусматриваться объединение субъектов предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности определенного вида в составе одной саморегулируемой организации. Необходимо обратить внимание, что указанная норма, представляя собой разновидность императивной нормы, не содержит в своей диспозиции властных компетенций. При обязательном саморегулировании, реализующемся на основании данной нормы, саморегулируемая организация не получает прав на осуществление действий по управлению своими членами. Часть властных компетенций саморегулируемой организации содержится в ч. 1 ст. 6 ФЗ о СРО, но все они опосредуют обычные функции корпоративного управления, которые так же точно могут быть реализованы и в диспозитивном порядке в уставных документах любой корпорации с иной организационно-правовой формой. Необходимость установления властных компетенций для саморегулируемой организации в ФЗ о СРО связана с важностью детерминации и акцентирования законодателем ее целевого предназначения, а также с ограничением возможности диспозитивного изъятия управленческих функций у саморегулируемой организации ее членами при ее формировании, поскольку отсутствие властного аппарата компетенций у саморегулируемой организации практически делает ее функционально непригодной для реализации тех целей, на достижение которых было направлено ее создание.
Поэтому императивное установление компетенций саморегулируемой организации в отношении своих членов должно квалифицироваться в качестве элемента правовой политики государства, направленной на «разгосударствливание» некоторых сфер профессиональной предпринимательской деятельности, необходимость которого связывается с избыточностью и неэффективностью государственного позитивного регулирования[236], которое должно расцениваться как самоустранение государства от регулирования отношений в данной сфере профессиональной предпринимательской деятельности, в большинстве случаев являющегося рудиментом советской административно-хозяйственной системы, и предоставление хозяйственным субъектам возможности самостоятельно определять правила и нормы своей профессиональной деятельности, а саморегулируемой организации самостоятельно осуществлять контроль над их исполнением.
В данном случае, несмотря на императивное установление компетенций саморегулируемой организации, следует отметить несколько их особенностей: 1) по содержанию эти компетенции имеют корпоративный характер и направлены на организацию внутренних взаимоотношений членов такой корпоративной структуры как с самой саморегулируемой организацией, так и между собой; 2) властные компетенции, предоставляющиеся ФЗ о СРО саморегулируемой организации и имеющие обязательный характер, могут быть существенно расширены диспозитивным усмотрением членов саморегулируемой организации; 3) обеими сторонами формирующегося общественного отношения между саморегулируемой организацией и ее членами, имеющего организационный характер, являются частноправовые субъекты: с одной стороны некоммерческая корпорация в виде саморегулируемой организации, а с другой стороны – хозяйствующие субъекты профессиональной предпринимательской деятельности. Поэтому такое правоотношение ни по каким признакам не может быть охарактеризовано в качестве публично-правового.
2. Индивидуально-правовой регулятор (соглашение, договор) выполняет функцию персонального средства-установления, не имеющего общеобязательного характера. Его действие распространяется лишь на тот круг лиц, которые являются сторонами такого соглашения или третьими лицами, необходимость участия которых в координационном отношении определяется содержанием его основания (как сокредиторами (например, выгодоприобретателями), так и со-должниками).
Главная особенность основания координации экономической деятельности заключается в том, что его содержание в обязательном порядке должно включать в себя условие об установлении властных правомочий координатора, в отсутствие которых фактическое осуществление согласования действий не представляется юридически обоснованным. Властные правомочия координатора устанавливаются в диспозитивном порядке, путем согласования их всеми сторонами сделки, лежащей в основании координационного правоотношения.
Основным индивидуально-правовым средством установления частноправовых властных полномочий является гражданско-правовой договор, основу которого составляет двухстороннее волесогласование, выраженное в форме двухсторонней сделки. Специфика договора как основания любого обязательства состоит в том, что, несмотря не необходимость соответствия его содержания требованиям и ограничениям позитивного права, в нем, как ни в каком ином правовом средстве, наиболее ярко реализуется основной сквозной принцип гражданского права – диспозитивность. Пленум ВАС РФ указал, что «в случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней»[237]. Принимая во внимание все регламентированные законом ограничения принципа свободы договора, стороны договора при его заключении, тем не менее, обладают практически неограниченным диапазоном возможностей включения в его содержание самых разнообразных условий, в том числе и условия о предоставлении одному из его субъектов того или иного объема властных правомочий.
Возможность одного частноправового субъекта оказывать властное воздействие на другого внешне представляется как нарушение принципа равенства участников гражданско-правового отношения (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Однако, учитывая, что властные правомочия устанавливаются сторонами договора в согласованном между собой порядке, фактически создавая эффект «неравенства» в отношениях субъектов координационного обязательства, такое «неравенство» нельзя расценивать как нарушение принципа равенства, потому что его основу составляет гражданско-правовое соглашение, базирующееся на принципах диспозитивности и свободы договора. В итоге, именно принципы равенства и диспозитивности создают основу для возможности формирования условий для возникновения модели частноправового управления.
В данном случае отсутствуют основания для признания такой сделки недействительной. Пленум ВАС РФ в своей правовой позиции по этому вопросу исходит из того, что в случаях, если норма не содержит явно выраженного запрета на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии императивности, то она должна рассматриваться как диспозитивная. В таком случае отличие условий договора от содержания данной нормы само по себе не может служить основанием для признания этого договора или отдельных его условий недействительными по статье 168 ГК РФ[238].
Если для договора характерна достаточно широкая вариативность условий, составляющих его содержание, то корпоративные акты, которые также могут определять содержание и состав властных правомочий между равными частноправовыми субъектами, в значительно большей степени находятся под ограничительным действием позитивного права. Корпоративное управление, так же как и управление, основанное на договоре, имеет в своем основании совершенно определенную гражданско-правовую сделку, определяющую, в первую очередь организационно-правовую форму корпорации. В качестве такой сделки в зависимости от вида формирующейся корпорации могут выступать различные виды гражданско-правовых соглашений.
В акционерном обществе в качестве такой сделки выступает договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, предусмотренные законом об акционерных обществах (п. 1 ст. 98 ГК РФ). В обществе с ограниченной ответственностью – договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер их долей в уставном капитале общества и иные установленные законом об обществах с ограниченной ответственностью условия (п. 1 ст. 89 ГК РФ). Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо (ст. 86.1 ГК РФ) создается на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 23 ГК РФ и ст. 4 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»[239]). Товарищество на вере («коммандитное товарищество») создается и действует на основании учредительного договора (п. 1 ст. 83 ГК РФ), так же как и полное товарищество (п. 1 ст. 70 ГК РФ).
Особой формой соглашения следует считать решение об учреждении корпорации, которое принимается собранием учредителей, не только в хозяйственных обществах (см. п. 1 ст. 9 ФЗ об АО[240]; п. 1 ст. 11 ФЗ об ООО[241]), но также и в юридических лицах в форме партнерства (см. п. 1 ст. 8 ФЗ о хозяйственных партнерствах[242]). Специальная форма согласования содержания и состава правомочий управления предусматривается в производственном и в потребительском кооперативе, устав которого, содержащий сведения о составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений, принимается путем совершения специфической процессуальной формы соглашения – голосования его членов, внесших паевые взносы (п. 2 ст. 108 ГК РФ и п. 2 ст. 116 ГК РФ). Общественные и профессиональные объединения граждан (общественные организации, ассоциации, союзы формируются на основании декларативных документов, выработанных совместно их членами путем добровольного присоединения к содержащимся в них условиях. По существу, такие объединения необходимо считать основанными на договоре присоединения, заключенном в устной форме (хотя не исключается возможность, что в некоторых видах некоммерческих организаций с каждым их членом могут заключаться и письменные соглашения об их участии в деятельности некоммерческой корпорации).
Модель корпоративного управления различна для каждой отдельной организационно-правовой формы корпорации. Они отличаются по структуре властной вертикали, иерархии властного подчинения, количеству уровней корпоративного управления. Но в любой форме корпоративного управления его основу всегда составляет корпоративное правомочие управления, регламентированное абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ наряду с другим корпоративным правомочием – участия, составляющими содержание корпоративного отношения. Таким образом, в отличие от договорной координации экономической деятельности, координация, основанная на корпоративных правомочиях участия и управления, реализуется в рамках не обязательственного, а корпоративного правоотношения.
Формирование структуры корпоративного управления обладает важной особенностью: диспозитивность усмотрения членом будущей корпорации при ее образовании существенно ограничена правовыми моделями внутрикорпоративного управления, регламентированными в отношении той или иной организационно-правовой формы юридического лица действующим законодательством. Например, в обществе с ограниченной ответственностью императивно устанавливается двухуровневая структура корпоративного управления: 1) высшим органом общества является общее собрание участников общества (п. 1 ст. 32 ФЗ об ООО); 2) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (п. 4 ст. 32 ФЗ об ООО). Однако такой императивный порядок корпоративной структуры управления в обществе с ограниченной ответственностью может быть диспозитивно расширен по усмотрению его членов. Такое расширение возможно в двух направлениях: 1) в сторону изменения количества уровней управления; 2) в сторону изменения качества уровня управления.
В первом случае в обществе с ограниченной ответственностью число уровней управления может быть диспозитивно расширено его участниками за счет образования совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 32 ФЗ об ООО). При этом порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также порядок прекращения полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и компетенция председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества определяются не императивно (законодательно), а диспозитивно, в соответствии с условиями, согласованными членами общества в его Уставе. Законодательно закрепляется лишь минимальный объем компетенций совета директоров (наблюдательного совета) общества, представляющий собой открытый перечень, который может быть диспозитивно дополнен членами общества путем включения необходимых компетенций данного органа в Устав общества.
Во втором случае в обществе с ограниченной ответственностью может быть изменена структура исполнительных органов управления. Руководство текущей деятельностью общества может осуществляться не только единоличным исполнительным органом общества, но также и совместно единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. При этом ФЗ об ООО императивно регламентирует иерархию подчинения исполнительных органов общества, устанавливая обязательность их подотчетности общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества (п. 4 ст. 32 ФЗ об ООО).
Для акционерного общества условия формирования структуры корпоративного управления более жесткие, так как в акционерном обществе с числом акционеров более пятидесяти в обязательном порядке предусматривается трехуровневая структура корпоративного управления: 1) высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание его акционеров (п. 1 ст. 103 ГК РФ); 2) органов второго уровня является совет директоров (наблюдательный совет) (п. 2 ст. 103 ГК РФ); 3) исполнительный орган общества (п. 3 ст. 103 ГК РФ) является органом управления третьего уровня. Открытые перечни компетенций высшего органа управления акционерным обществом и совета директоров акционерного общества могут быть в диспозитивном порядке расширены его акционерами, точно так же как и в диспозитивном порядке участниками акционерного общества может быть определена структура исполнительного органа общества, который может быть как коллегиальным (правление, дирекция), так и (или) единоличным (директор, генеральный директор).
В основе необходимости законодательного установления специальных ограничений и требований относительно структуры управления в коммерческих и некоммерческих корпорациях лежит политикоправовой интерес государства, который сводится к необходимости осуществления контроля за организационно-правовой деятельностью юридических лиц, определяющей содержание их правового режима в гражданском обороте. Применительно к целям настоящего исследования приобретает значение возможность сторон координационного отношения в большей или в меньшей степени определять состав и содержание властных правомочий. Поэтому, например, иерархия управления в корпорации имеет определенные ограничения в отношении установления возможности оказания управляющего воздействия на хозяйственную деятельность самой корпорации. Это означает, в частности, что далеко не все решения, принимаемые высшими органами управления юридического лица, могут непосредственно отражаться на предпринимательской деятельности корпорации в хозяйственном обороте, осуществление которой не входит в управленческие компетенции высших органов управления, а составляет содержание полномочий исполнительных органов. С другой стороны, отдельные элементы деятельности исполнительных органов в соответствии с законом нуждаются в получении одобрения высшими органами общества (крупные сделки, сделки с заинтересованностью и т. п.). Законодательное формирование такой системы «сдержек и противовесов» в корпоративном управлении является необходимым условием стабильности гражданского оборота, а потому представляет собой необходимый элемент правовой политики государства по государственному регулированию предпринимательской деятельности.
Необходимо отметить, что в отношении свободы предпринимательских договоров практически отсутствуют политико-правовые основания для ограничения принципа свободы договора в отношении возможности установления частноправовыми субъектами властных правомочий, позволяющих одной из сторон такого договора требовать от другой исполнения своих руководящих указаний. Даже в таком «квазиюридическом» лице, как инвестиционное товарищество[243], полномочия «управляющего товарища» (п. 3 ст. 4 ФЗ об инвестиционных товариществах[244]) юридико-технически сформулированы не как властные правомочия управления, а через установление в отношении него системы юридических обязываний. Это совершенно не случайно, потому что принцип свободы договора в комплексе с принципами диспозитивности и равенства участников гражданского оборота предполагают, что установление режима «гражданско-правового управления» между равными частноправовыми субъектами может быть реализовано только на основании их обоюдного свободного волеизъявления, то есть только путем закрепления состава и содержания властных правомочий в условиях договора.
Таким образом, основаниями частноправовой координации экономической деятельности вне зависимости от содержания координационного правоотношения (корпоративное или обязательственное (договорное)) являются различные формы согласованных волеизъявлений свободных равных частноправовых субъектов, содержащие в себе властные полномочия, предоставляющие возможность координатору осуществлять управляющее воздействие на координируемых хозяйствующих субъектов.
3. Координация экономической деятельности реализуется в рамках особого координационного (управленческого) правоотношения, программа которого определяется содержанием сделки, лежащей в основании этого отношения и определяющей условия координации. Содержанием этой сделки устанавливаются и основные элементы координационного отношения.
1. Субъектный состав отношения по координации экономической деятельности детерминирует лица, принимающие в нем участие, и распределяет систему прав и обязанностей между ними.
2. Содержание властных правомочий и их субъектная принадлежность определяют объем управленческих компетенций координатора, возможные варианты и способы оказания управленческого воздействия (способы реализации властных правомочий, то есть содержание и форму односторонних действий координатора по координации деятельности координируемых субъектов), а также процессуальные условия осуществления властных правомочий координатором.
3. Содержание обязанностей координантов по исполнению распоряжений координатора с определением условий о сроках, порядке и процессуальных элементах их исполнения.
4. Меры ответственности за неисполнение предписаний координатора. Этот элемент содержания основания координации экономической деятельности должен определяться в обязательном порядке[245], поскольку его наличие определяет эффективность согласования действий координируемых хозяйствующих субъектов и гарантирует достижение ими их экономических целей. Содержание мер ответственности и их объем может быть различным: от мер обязательственной защиты, предусмотренных гл. 25 ГК РФ, до мер дисциплинарного или организационного воздействия на нарушителей.
4. Координация экономической деятельности может иметь различную направленность, содержание которой определяется не столько правовыми, сколько хозяйственными целями координации, а еще конкретнее – тем экономическим эффектом, который может быть достигнут в результате согласования действий хозяйствующих субъектов усилиями координатора.
Целесообразность действий по координации экономической деятельности является одним из критериев категории «согласование действий». Содержание деятельности координатора по согласованию действий определяется конечной целью координации экономической деятельности, объектом воздействия которой всегда является хозяйственная деятельность координируемых субъектов. С точки зрения телеологии как учения о целях, в основе цели всегда лежит интерес, который на товарных рынках приобретает черты экономической потребности.
Следует отличать правовую и неправовую (экономическую, хозяйственную) цели координации экономической деятельности.
Неправовая цепь координации экономической деятельности преследует получение определенных экономических (хозяйственных) выгод из осуществления процесса согласования действий хозяйствующих субъектов. Собственно эта цель и определяет содержание последствий координации экономической деятельности (так же как и содержание последствий заключения картельных соглашений и совершения согласованных действий). Совершенно не случайно, что ЗоЗК в ст. 11 и 11.1 устанавливает критерии антиконкурентных действий именно способом перечисления неблагоприятных экономических (а не правовых) последствий: 1) установление или поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок; 2) повышение, снижение или поддержание цен на торгах; 3) раздел товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков); 4) сокращение или прекращение производства товаров; 5) отказ от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками); 6) манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).
Координация экономической деятельности необходима рынку как важный экономический инструмент оптимизации деятельности его участников. В очень большом числе случаев координация экономической деятельности имеет положительный хозяйственный эффект. Но, к сожалению, положительный эффект для одних участников оборота может иметь неблагоприятные последствия для других его участников. Поэтому и необходимо установление правовых ограничений и запретов, связанных с осуществлением такой координации экономической деятельности.
Правовая цель координации экономической деятельности определяет не хозяйственный эффект, получаемый от согласования действий хозяйствующих субъектов, а способ осуществления самой координации экономической деятельности, а еще точнее – комплекс механизмов реализации прав и исполнения обязанностей, возникающих в процессе ее осуществления. По существу, правовая цель координации экономической деятельности наряду с содержанием, формой и волеизъявлением представляет собой элемент фактического состава право образующей сделки, лежащей в основании координационного правоотношения и детерминирующей правовую программу обязательства, которая включает в себя не только условия, устанавливающие и определяющие объем властных правомочий координатора и содержание обязанностей координантов, но, кроме этого, содержит гарантии надлежащего исполнения обязанностей сторон сделки, заключающиеся в установлении специальных механизмов принуждения или защиты. Другими словами, правовая цель координации экономической деятельности определяется содержанием условий основания координационного отношения, в качестве которого в зависимости от правовой формы координации экономической деятельности может выступать либо гражданско-правовой договор, либо корпоративный акт (учредительный договор, акционерное соглашение, устав общества, решение собрания и т. п.)
При определении модели координации экономической деятельности содержание неправовой цели, как правило, детерминируется содержанием правовой цели. При этом между субъектами координационного отношения может возникать конфликт экономических интересов. По признаку этого конфликта интересов координация экономической деятельности может быть классифицирована как направленная на:
а) удовлетворение интересов координатора (холдинги, группа лиц);
б) удовлетворение интересов координантов (саморегулируемые организации, некоммерческие организации, союзы, ассоциации);
в) удовлетворение интересов одновременно всех субъектов координации экономической деятельности (дистрибьюция, франшиза, агентирование, вертикальная рыночная интеграция).
Цели и последствия координации экономической деятельности не должны служить ориентирами для ее квалификации в качестве правонарушения. В одном из решений суд расценил координацию экономической деятельности как правонарушение, указав на то, что целью или следствием согласования действий формально независимых субъектов является координация конкурентного поведения соответствующих лиц[246]. Правонарушением в соответствии с ч. 5 ст. 11 ЗоЗК является только такая координация экономической деятельности, которая повлекла последствия, а не та, целью которой является согласование действий хозяйствующих субъектов. По этому пути идет и судебная практика[247]. Отменяя решения судов нижестоящих инстанций, суд кассационной инстанции указал, что запрету подлежит только такая координация, которая приводит к последствиям, поименованным ст. 11 ЗоЗК, а не та, последствия которой негативно отражаются на состоянии конкуренции, как указали суды в отмененных судебных актах[248].
5. Не следует смешивать категории «правовая форма координации экономической деятельности» и «форма реализации координации экономической деятельности». Первая категория определяется формой сделки, содержащей условия осуществления координации экономической деятельности (например: договор, корпоративный акт). Вторая категория представляет собой форму реализации уже существующих властных правомочий, возникших в результате совершения сделок, лежащих в основании координационного правоотношения. В случае координации экономической деятельности властные правомочия реализуются координатором путем совершения им односторонних сделок, содержащих властные распоряжения в отношении координируемых лиц, как-то: уведомления, заявления, письма и т. п.
Правовая форма координации экономической деятельности определяется не только правовой природой возникновения властных правомочий, но и содержанием экономических и правовых отношений, опосредующих процесс коллективного управления при осуществлении координации экономической деятельности. Классификация форм координации экономической деятельности устанавливается на основании двух критериев:
1) правоотношения, возникающего между субъектами координации экономической деятельности:
1. договорная координация экономической деятельности (обязательственное правоотношение),
2. корпоративная координация экономической деятельности (корпоративное правоотношение);
2) экономического отношения между субъектами координации экономической деятельности:
1. горизонтальная координация экономической деятельности (поставщик – поставщик; продавец – продавец);
2. вертикальная координация экономической деятельности (поставщик – продавец).
В юридическом смысле правовая форма координации экономической деятельности определяется правовой природой властных правомочий. Если они базируются на праве требования, то формируется договорная форма координации экономической деятельности. Такая форма координации возникает на основе гражданско-правового договора, так как для установления властных правомочий необходим обязательный элемент согласованного волеизъявления в составе сделки, лежащей в основании координации экономической деятельности. Если властные правомочия основываются на правомочиях участия и управления корпорацией – то имеет место корпоративная форма координации экономической деятельности. Основаниями этой формы координации экономической деятельности могут служить договоры корпоративного содержания, учредительные договоры, акционерные соглашения, иные виды согласованных волеизъявлений, например, решения органов юридических лиц, содержащие в своих условиях властные компетенции, определяющие фигуру координатора и состав и содержание его властных правомочий.
Значение экономического отношения в определении правовой формы координации экономической деятельности определяется принадлежностью как координируемых субъектов, так и самого координатора к определенному уровню рыночного канала товарораспределения. Можно выделить несколько вариантов экономических форм координации экономической деятельности по отношению к уровню рынка.


