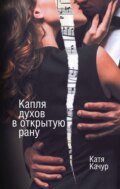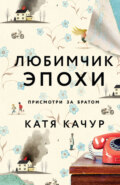Катя Качур
Ген Рафаила
Глава 4
Комиссаржевские
Толя гордился своими корнями. Его маменька – Элеонора Васильевна, искусствовед Третьяковской галереи – уже после смерти отца – часто устраивала застолья и приглашала подруг – таких же, как она, свежих, розовощеких начитанных тетушек в накрахмаленных воротничках. Эти обеды мама называла «графскими», потому что на столе оказывались вызволенные из старинного буфета серебряные вилочки для рыбы, ложечки для десерта, пузатые, в патине, соусницы, немыслимые ободочки для салфеток, в общем, вся та милая ерунда, без которой и так можно прекрасно сожрать рыбу, вишневое варенье, полить томатным соусом пельмени и вытереться кухонным полотенцем.
В обычной жизни Толя так и делал. Но в присутствии божественных старух он долго пытался подцепить двурогим орудием белужью плоть, поймать засахаренную ягодку круглой лопастью лилипутской ложки и долго лить из зауженного носика аджику, которую обычно плескал себе в миску с макаронами из трехлитровой банки.
Разговоры во время таких обедов тоже были старинными, витиеватыми, запутанными, как сложная виньетка из крученой серебряной проволоки на рукоятке этой самой рыбьей вилки. Говорили о флорентийской живописи, о Мане и Моне, о том, как плохо пахнут чулки у неприглашенной Нины Давыдовны, о том, что дочь непришедшей Анны Петровны забеременела от любовника Анны же Петровны, и, конечно, о совершенно удивительном происхождении Анатолия, его покойного отца и всей его давно почившей семьи.
Толя с раннего детства слышал историю своего прадеда – ни много ни мало – русского тенора Федора Петровича Комиссаржевского, у которого в первом браке было трое дочерей – Вера (та самая известная актриса Комиссаржевская), Любовь и Ольга. Потомком младшей из сестер – Ольги – Толя Красавцев и являлся. О ней меньше всего упоминалось в исторических метриках, и даже дата ее смерти была неведома официальным историкам.
По семейной легенде, Ольга родилась вскоре после того, как ее отец вернулся из Италии в Россию и пел сначала в Итальянской петербургской опере, а потом – и в самой Мариинке. Папеньку Теодора (так называла его семья) Оля помнила плохо. До ее тринадцати лет он пропадал на гастролях, а после, встретив в одном из турне литовскую княжну Курцевич, влюбился, второй раз женился и родил четвертого ребенка – мальчика Федора. Ольга вышла за русского офицера Михаила Красавцева, далее они породили Ивана, а тот вместе с женой Элеонорой наконец произвели на свет его – Толю. Все это было изящно, изумительно, тонко, если бы однажды, во время «графского» обеда Нина Давыдовна (ее таки пригласили, несмотря на вонючие чулки) вдруг вспылила, на что-то обиделась, подняла вверх двузубую вилочку и с гневом императора Нерона произнесла:
– Вы что, сучьи дети, за дворянские корни-то уцепились? Ольге Комиссаржевской – и вам, Элеонора Васильевна, это должно быть известно лучше остальных – в революцию девятьсот семнадцатого было уже сорок восемь лет! Если бы она дожила до семидесяти пяти, как ваша баба Оля, то умерла бы в сорок четвертом году! А Толенька родился в пятьдесят восьмом, и, по вашим же рассказам, заниматься с ним уроками до пятого класса она никак не могла! Потому не выдумывайте, голубушка! Ваша теща в девичестве была просто однофамилицей знаменитой Ольги, да и разница в возрасте у них была лет двадцать – не меньше. Ибо померла баба Оля год назад! Царствие ей небесное!
Толя на всю жизнь запомнил, как маменька побагровела и уже своей рыбьей вилочкой показала Нине Давыдовне на дверь.
– Вон! Неблагодарная!
За что маму должна была благодарить владелица душных чулок, Толик не понял. Но перед сном взял ручку с листочком в клетку и рассчитал годы рождения и смерти обеих героинь дневного повествования. Ужаснулся и осознал: никакой он не граф. И к великому тенору никоим образом не причастен. Маменьку решил не расстраивать, уж больно хороша была легенда. Более того, сам впоследствии рассказывал ее своим женам и детям, не называя цифр и не вдаваясь в детали.
Верили безоговорочно. Второй дотошной Нины Давыдовны ему на пути не попалось.
Но что было абсолютной истиной – это жизнь его родного отца Ивана Михайловича. Даже не жизнь – эпическое полотно. Он восхищался этим полотном, завидовал, понимал, что никогда сам не одолел бы такой путь, и самое ужасное – передал своему сыну Андрюшке безоговорочную любовь, нет, тотемное поклонение деду Ване. Хотя дед умер задолго до Андрюшкиного рождения.
И вот казус: сам Толя, как две капли воды похожий на маму Элеонору, родил от Олеськи сына – абсолютную копию Ивана Михайловича. До впадинки на щеке, до ледяного взгляда прозрачных голубых глаз, до какой-то странной выпуклой родинки с грецкий орех на подъеме стопы.
Родил сына, первой фразой которого было «хочу на войну!», что вызывало одновременно смех и мороз по коже…
* * *
Толя до самой старости не мог забыть детского ощущения металлического осколка под папиной кожей. Их было пять. Разной формы, разной глубины залегания. Отец сажал его – сначала карапуза – потом шестилетку – затем третьеклассника – на колени, затягивался кубинской сигарой и разрешал трогать свою ногу – от икры до бедра, где были спрятаны эти сокровища.
Фрагменты артиллерийского снаряда находились в мышце, но когда отец напрягал и поднимал пистолетом ногу, они всплывали под кожу, и пальцами можно было прощупать шершавость их поверхности, углы и теплые грани. Самый любимый кусок был выше колена, он почему-то представлялся Толе малахитом, описанным Бажовым в своих уральских сказах. В икре залегало два изумруда. Казалось, они были прохладнее и прозрачнее остальных. А ближе к паху – два аметиста. Темно-фиолетовых, как декабрьский сумрак. У одного – треугольного на вершине – было что-то вроде крючка, и Толя очень долго проминал, мусолил его, закрыв глаза.
Отец смеялся, его забавляли сыновьи геммологические фантазии. Мама ругалась – ребенок сидел в клубах плотного, как грязная простыня, дыма. А Толик был счастлив. До того счастлив, что никогда не спрашивал: «Пап, это больно?» А отец никогда никому и не рассказывал, что это адски больно. Особенно перед дождем или снегом, особенно после семейных скандалов, особенно в бессонные ночи, когда мозг раздирал то самое эпическое полотно его жизни на лоскуты и подкидывал в память, как бумагу в пламя. И память ревела, орала, просила пощады. Она не хотела возвращаться в ад, но была сцеплена с ним навсегда.
Глава 5
Иван – итальянец
Ну пусть это была не та Комиссаржевская. Но баба Оля – мать Ивана Красавцева – говорила на итальянском, будто пила родниковую воду. И пела она чудесно, велюровым сопрано, пусть даже унаследованным не от знаменитого тенора Теодора, а от другого талантливого человека. Мало в России гениев?
С детства она лопотала с сыном, мешая итальянские слова с русскими. Язык чужой страны был для него таким же органичным, как казачья балачка [1], которую он слышал каждое лето, отдыхая у деда на Кубани. Но именно знание lingua italiana [2] сыграло в его жизни роковую роль.
В феврале 1944-го под Воронежем скопилось огромное количество документов разгромленной восьмой итальянской армии, воевавшей на стороне Германии. В бою под селом Николаевка двумя неделями ранее средиземноморских военных разбили наголо. Кто не успел умереть от дичайших морозов, были убиты или смертельно ранены. Немногим удалось вырваться из окружения.
Иван Красавцев, командир разведроты, был прикреплен к группе лингвистов для разбора брошенной вражеской документации. Собрались в укрепленном блиндаже, куда солдаты стащили груды бумажных дел.
Ваня болел ангиной. Температура зашкаливала за сорок, миндалины, налитые гноем, ощущались как два штепселя, подведенные к розетке. Он забился на соломенный топчан и пороховым пальцем правой руки дал парням понять, что поспит часок. Остальные вояки (их было шестеро) сгрудились над столом, расстилая географическую карту, сплошь покрытую итальянскими надписями.
Иван провалился в сон, который тащил его больными гландами по шершавому льду намертво замерзшего Дона. Такого Дона он не знал в детстве. На Кубани река была солнечной, распахнуто-гостеприимной, качающей его в колыбели своих вод. Зимой 1943/44 года Воронежский Дон был схвачен льдом и вздыблен, как вывернутый руками за спину диверсант. Наконец панцирь реки треснул и раскололся. Мощный взрыв прорвал ледяную махину и раскидал ее на километры до горизонтов. Но облегчения не последовало. Наоборот, чудовищная бурлящая боль залила берега и потекла по руслу вместо воды.
Больше Ваня ничего не помнил. На деле в землянку прямиком попал артиллерийский снаряд. Шестеро ребят, что корпели над столом, были убиты в секунду, а в Красавцева попали с десяток осколков. Блиндаж завалило, и лишь на следующий день солдаты стали слой за слоем снимать грунт, чтобы достать и похоронить мертвецов. Одно за другим тела выкапывали, освобождали от земли и клали штабелями возле вырытой братской могилы. Красавцев лежал седьмым, кровь на лице смешалась с грязью, скрюченные белые пальцы нелепо сжимали полы гимнастерки.
Мела метель. Такая белая, будто природа сама хотела быстрее завернуть погибших в саван. Командир подразделения ходил взад-вперед мимо тел и рассматривал следы своих сапог на кроваво-снежном ковре. Смерть уже не цепляла, не рвала душу. Она господствовала над Землей. Все живые смиренно принимали это Владычество и подчинялись ее законам.
Но вдруг комвзвода споткнулся о сапог последнего из мертвой шеренги, вздрогнул и заорал:
– Братки! У него снег на лице тает! Тает снег на роже, браткииии!
Пятеро военных побросали лопаты и подбежали своими глазами увидеть это чудо: росток, пробивающий асфальт, ребенок, расправивший легкие, зазеленевшая почка на сожженном дереве. Жизнь! Жизнь посреди запаха мертвечины, посреди оторванных рук и ног, пробитых трахей, неоконченных писем маме.
– Живой! – заулыбались все и, переглянувшись, кинулись очищать его от снега.
– Пульс на запястье, – щерился чернозубым ртом молодой сержант и плакал.
Ваню Красавцева в это время сознание возило головой по раскаленным углям. Но этот толчок он помнит. Как четверо солдат подхватили его с промерзшей земли за конечности и поволокли к грузовику. Жизнь! Танцуй, счастливчик!
Правда, танцевать он больше не мог. Несколько осколков по всему телу ему вытащили в полевом госпитале, а пять – оставили в ноге – на память.
– Чо тебя ковырять? Важные органы не задеты, – просто сказал военный хирург. – Будешь, как дровосек из Изумрудного города. Читал?
– Не, – прохрипел Ваня.
– Детей, значит, нет, – заключил врач.
– Пока нет…
– Ну, родишь – прочитаешь.
Сыну Толе, который родился через тринадцать лет после войны, сказку Волкова он все же прочитал. А главное – ее бесконечно от корки до корки штудировал незнакомый Ивану мальчик. Андрюша. Похожий на него, как отражение в весенней луже. Как пробы из одной чашки Петри на стекле микроскопа. Как дагеротип [3], изготовленный Вселенной задолго до появления на свет как одного, так и другого…
Глава 6
Андрюша – солдат
Андрюша, Ванин внук, деда не застал. Но знал о нем абсолютно все, что сохранил в памяти отец Толик, что удалось раскопать в рассекреченных архивах Великой Отечественной (начиная с 2015 года), что рассказывали однополчане.
Сослуживцев деда Андрюшка нашел сам, через поисковиков, волонтеров и прочих ребят, занимавшихся историей Второй мировой. Родители давались диву. Здо́рово, конечно, но откуда такой азарт к незнакомому человеку? При том, что прадед по маминой линии – деревенский махина-танкист, дошедший до Рейхстага, его совсем не волновал.
Комната Андрюши с малых лет была увешана фотографиями Ивана. Не Симпсонов, не Черепашек-ниндзя, не Губки Боба – как у сверстников, – а именно деда. В капитанских погонах, когда он вышел после госпиталя. С Хрущевым, когда они шагали по Красной площади, с Фиделем Кастро, когда предок строил завод на Кубе.
Друзьям было тяжело с Андрюшей. Любое обсуждение блокбастера он возбужденно прерывал собственными рассказами.
– А знаете, как дед умирал в маковом поле? После первого ранения? Это было в Крыму, осенью, в сорок втором. А знаете, как он туда попал…
– Андрюх, ну хорош… ну когда это было… – скучнели сразу одноклассники.
– Он был командиром роты в начале войны, – не унимался младший Красавцев, – сапером был, слышите? И его задачей было минировать населенные пункты, которые мы сдавали во время отступления, в сорок первом, на границе с Белоруссией… и вот однажды…
И вот однажды Иван получил приказ подорвать небольшой городок на линии фронта, население уже эвакуировали. Сто человек в его подчинении пригнали вагоны взрывчатки по железной дороге, за двое суток заложили тротил под мост через реку, завод и здание горсовета. Сидят, ждут. Немец наступает, приказа о подрыве нет. Сидят, ждут. Танки со свастикой уже подошли к мосту, а приказа нет. Сидят, ждут. Первые наши подразделения вступили в бой с солдатами вермахта. А приказа нет. Сидят, ждут. Советские войска потеряли уже пять взводов. А приказа нет. Сидят, ждут. Бои завязались на улицах города. По широченному мосту через реку поперли танки. А приказа нет… И тут Иван Красавцев сам отдает команду: взрываем! Мост в щепки, город всмятку, враг уничтожен. Остатки роты Красавцева грузятся в вагоны и покидают линию фронта.
– И представляете, – уже кричит вспотевший Андрюша, – его вызывает особист из райцентра и говорит: «Была команда взорвать город?» Дед отвечает: «Нет!» Начальник орет: «Расстрелять!» – капельки пота проступают на лбу у мальчишки.
Друзья не слышат, что говорит Андрей Красавцев, но состояние припадка приковывает их внимание.
– И расстрелять приказывают его же подчиненным, ребятам из роты!!! – Андрюша срывает связки. – Но они его не убили, спрятали!!!
Вечер перестает быть томным. Боевик близится к кульминации.
– И чо? – округлив глаза, спрашивают пацаны.
– А на следующее утро приходит сводка: советскими войсками освобожден город N! И особист такой: «А, черт, зачем мы героя расстреляли?» А солдаты ему: «Да мы не стреляли. Так, в амбаре спрятали!»
– Фигасе! – одноклассники улавливают смысл происходящего.
– Да, говорил же, будет интересно, – уже сипит Андрюша. – Короче, идут они в амбар, а дед слышит стук офицерских сапог. И думает: «Буду смотреть ровно в ствол при расстреле!»
– Охренеть! – чувствуют кульминацию подростки.
– А ему: Иван Михайлович! Спасибо вам за то, что не отдали город врагу! Но, поскольку документы на вас уже все отправлены куда надо, вам дорога – в штрафбат.
– Вот сволочи! И че он, траншеи рыл? – горят от несправедливости Андрюшкины друзья.
– Не, его отправили в Крым в штрафную роту. Там ему в бою грудь прострелили навылет. И он кровью смыл типа свой позор. В маках лежал, слышите? В крови, в красных маках, крымских. Перед ним – небо.
– Как Болконский, – нашелся один умник.
– Какой позор-то он смыл? – вступил другой.
И Андрюша заплакал:
– В том и дело, что никакого…
* * *
С самого младенчества у Андрюши феноменально была развита мелкая моторика рук. В медкарточке прямо так и было написано: «Феноменальная мелкая моторика». Он клеил корабли и самолеты так, что за штурвалом сидел пилот в шлеме, очках и ручкой в нагрудном кармане. Причем парня из папье-маше ростом в два сантиметра можно было раздеть догола. Снять эти чертовы шлем и очки, вынуть ручку из комбинезона. Что уже говорить о мельчайших деталях корабельной рубки или самолетной кабины. Все двигалось, все работало. И это были не только дорогие сборные конструкторы, которые родители не успевали ему покупать, но и фигуры, сделанные самостоятельно из всего, что попадалось на глаза. По сравнению с Андрюшиной боевой техникой корабли, заточенные в бутылки у торгашей в туристических городах, выглядели детской калякой-малякой. Полки ломились от моделей. Часть коллекции вынуждены были перевезти в Большие Грязи-2. Толя смастерил для них стеллаж и любовно расставил по порядку. Иногда он подмигивал сыну:
– Может, сделаешь что-то из гражданской авиации? Или парусники пиратские?
– Ты чо, пап. Это скучно. Вся ваша гражданская жизнь – тотальная скука. Только в войне есть смысл. И как только я окончу одиннадцатый класс – пойду в армию. А потом контрактником – на войну.
– Куда? – поднимал брови Толя.
– Куда угодно!
– Ради чего? За какую страну?
– Конечно за свою! А ради чего – история покажет, – отвечал сын и сжимал зубы.
Толя с Олеськой мелко вибрировали. Они не верили, что у ребенка – призвание. Им казалось это маниакальной идеей.
– Пройдет, – говорили психологи, друзья и соседи.
Ждали долго. Не проходило. День ото дня его сходство с дедом становилось мистическим.
Однажды он обработал в фотошопе снимок Ивана и приклеил на выпускной документ. Никто не обнаружил подвоха. Красота и стать Андрюши были столь ошеломляющими, что стоило приехать с классом в Москву или Питер на экскурсии, его обязательно выцеплял из толпы какой-нибудь помощник режиссера и предлагал прийти на пробы.
Однажды «по приколу» они с одноклассниками зашли в бутик Филиппа Плейна на Петровке, посмотреть на черепушки. И тут же из-за кулис выскочил лоснящийся мужик, который предложил Андрюше работу модели в доме немецкого кутюрье.
– Молодой человек, это его ведущий амбассадор из Италии, – зашипели на ухо консультанты, – немедленно соглашайтесь.
– Неее, – улыбался Андрей, – на фиг надо, шмотье на себе таскать! У меня другое предназначение.
Глава 7
Баттл второй
Мизансцена вторая. Остров Рафаила. Прохладный август. Комната Андрюши, в которой он бывал от силы пару раз за лето. Окна распахнуты, сквозняком с полки сносит вертолет, и тот начинает от ветра вращать лопастями, медленно приземляясь на протянутую ладонь Батутовны, как стрекоза садится на самую выпирающую ветку чапыжника.
Старушка в слезах, наполняющих морщины, сжимает в кулаке склеенный из тонкой кальки летательный аппарат. Он хрустит, словно раздавленное каблуком печенье. Несущий винт проскальзывает сквозь пальцы и продолжает парить, устремляясь к полу. На полу же – гора поломанной, растоптанной голыми ногами Батутовны военной техники – корабли действующей французской армии, советские подлодки, американские истребители…
Анатоль, цепенея от вандализма тещи, целит в нее кием от сломанного бильярда. Она свободной рукой держит над головой закопченный кипящий чайник. На каждый выпад кия Батутовна плещет из носика кипяток в сторону очередной ювелирной модели с полки. Ошпаренный самолет вздрагивает и конвульсивно начинает съеживаться, теряя на ходу боевую раскраску и своих непобедимых пилотов.
– Мерзавка! – в голос рыдает Анатоль. – Это ж Андрюшкиными руками сделано! Убийца! Ты всегда была убийцей!
Зять пытается выбить кием горячий чайник, но Батутовна ловко прыгает треснувшими пятками поверх поверженной эскадрильи, и Анатоль то и дело промахивается, сам кроша под собой остатки того, что годами рождал его сын.
– Я убийца? – воет она, поливая кипятком модели на полке и на полу. – Это я, да, воспитывала в ребенке любовь к стрельбе, взрывам, смерти? Я была глуха, когда он с рожденья твердил, что уйдет на войну? Я просрала тот момент, когда он поперся в военкомат? Я не взрастила в нем ничего, кроме боли?
– А что я мог сделать? – Анатоль наконец попадает острием кия Батутовне в верхнее веко.
– Следить за сыном! Пользоваться связями, придумать ему болезнь, не пускать в армию! – Теща, роняя емкость с кипятком себе на ступни, закрывает ладонями окровавленное око. – Ты не должен сдавать его на пушечное мясо! Ты не смел ему разрешать клеить всю эту смертоносную ерунду!
Анатоль бросается на помощь Батутовне, но поскальзывается на размякшем самолете британских ВВС и падает, словно по стиральной доске, проезжая головой по полкам с остатками Андрюшкиных шедевров.
Стеллаж срывается со стены и накрывает сверху обоих. Кладбище погибших, затопленных кораблей и сбитых самолетов, растоптанные Андрюшкины мечты, ожоги конечностей, потеря сознания, залитый кровью глаз, безысходно воющий Хосе в будке.
Глава 8
Хуан Фернандес Карбонеро
Хуан являлся заключительной частью Марлезонского балета. Он прибывал, когда раненые больше уже не могли нанести друг другу увечий, но еще не способны были себя обслужить.
Его умения – вколоть обезболивающее, обеззаразить, зашить и перевязать конечность, закапать антибиотик в глаза – были предназначены животным, а именно – лисам, которых он и приехал изучать в заволжские леса.
Но Батутовна с Анатолем регулярно тренировали медицинские навыки Хуана, а потому, выезжая на «материк» – в город, – он закупал гораздо больше лекарств, пластырей и бинтов, чем требовала того лисья гвардия.
Хуан был испанцем. Тем странным испанцем, который почему-то с детства решил, что он русский. Так бывает, когда ребенок, родившийся в Норвегии, всю жизнь скучает по Африке. А потом вырастает, продает все имущество и поселяется где-нибудь в Уганде, счастливый и абсолютно не понятый родными.
Никто не скажет, какие именно книги читал Хуан в отрочестве, почему ему не хватило во дворе обычной испанской кошки или собаки, что заставило его покинуть залитую светом Саламанку и приехать в эту глушь, где первое время не было ни электричества, ни газа.
Но Хуан Фернандес Карбонеро взял с собой только гитару (не зря мама водила в музыкальную школу) и приехал поступать в Москву, в Тимирязевскую академию, на кафедру зоологии биологического факультета.
Его влекли лисы. Школьником Хуан подвязался с археологами в экспедицию на Пиренеи. Они нашли тогда семейное захоронение эпохи неолита. И прямо на людских костях – шаг за шагом, взмах за взмахом археологической кисточки – обнажился скелет лисы с переломанной, но сросшейся задней лапой. Лиса не была жертвоприношением, не была просто убитым на охоте животным, она явно являлась частью этой семьи, как простая псина. Но собак приручили порядка 15 тысяч лет назад, а лисы до сих пор не стали домашними.
Этот факт поразил юного Хуана настолько, что он не мог спать. Испанец мечтал о собственной лисе, хитренькой, остромордой. Он мысленно перебирал пальцами по ее пушистой спинке, чесал нежную шейку, оглаживал хвост, зарывал лицо в мягкий живот. Наблюдал в зоопарках за разными видами – от крошечных ушастых фенеков и шустрых палевых корсаков до полноразмерных рыжух, но ни разу не встретил в их глазах приязни.
Они не любили его. Они не любили людей в принципе. Как эта рыжая морда неолита могла быть верна своим хозяевам, для Хуана оставалось загадкой. До тех пор, пока он не наткнулся на работу русских генетиков и некого Дмитрия Беляева, которые в конце 1950-х в Новосибирске начали глобальный эксперимент по одомашниванию черно-бурых лисиц. Год за годом они отбирали самых ласковых и послушных животных и спустя 50 поколений (благо лисы плодились уже однолетками) вывели особей, по доброте и привязанности похожих на собак.
Исследования начал повторять весь зоологический мир. И уже в двадцатые годы нашего века международный костяк ученых выявил у лис особый ген SorCS1, исключающий агрессию. Этот ген отвечал за передачу сигналов между нейронами и, как выяснилось позже, был аналогичен человеческому, несущему аутизм и шизофрению. Иными словами, умники со всех континентов вывели лису, которая искренне заглядывала в глаза охотнику, глуповато улыбалась, если бы ей позволило строение морды, и вообще не чувствовала опасности.
В России ушлые бизнесмены превратили волшебный ген в большие деньги. Добрых лис разводили на фермах и продавали любителям в качестве домашней экзотики. Одна из таких ферм находилась в Заволжье, в поселке Большие Грязи-2. Но хозяина кто-то убил – не зря на этой земле рыскали беглые заключенные, – несколько десятков животных разбежались, большинство погибли.
Хуан, уже аспирант Тимирязевки, прочитав в желтой прессе эту историю, собрал рюкзак, сдал в аренду испанский дом, приехал в Большие Грязи-2 и купил хибару. Он теперь точно знал, для чего живет, – чтобы спасти, адаптировать к дикой природе и убрать селекцией несчастную лисью мутацию хотя бы на одном берегу Волги.
До поселка добрался на ржавом «Омике» и тут же попал в заваруху. Большегрязевцы неистовали на главной площади у бюста Ленина с вилами-лопатами и орали благим матом: хотим называться Островом Рафаила!
– Да, мать вашу, вы – полуостров, а Рафаил – опаснейший преступник! – кричал с кузова грузовика какой-то чиновник в сером костюме.
– Не переименуете – сожжем пристань! – орали аборигены. – Спалим леса, взорвем помойку, пустим отходы по течению!
Хуан был в восторге. Он чувствовал себя героем остросюжетного романа и одновременно бумажкой в воронке исторического унитаза. Не поддаваясь никакой логике, эта плешь заволжской земли была вскоре официально переименована. Но веселое возбуждение зоолога продлилось недолго: неделю за неделей он начал находить в окрестных лесах трупы задушенных и освежеванных лисиц. А когда изучал останки – понял, что в них даже не стреляли! То есть звери шли прямо в руки человеку. Тому самому, кто убивал и снимал шкуры.
– Это Рафаил, – сказали Хуану местные жители, – он и с собаками не церемонится. Где-то продает шкуры, иногда жрет их мясо. Нелюдь. Живодер. Чудовище.
Испанец, скрупулезно записывающий свои наблюдения на стареньком компьютере, вычеркнул научный символ SorCS1 и заменил его на собственный термин – ГЕН РАФАИЛА – мутация, противоречащая инстинкту самосохранения.
С деревенскими Хуан не очень ладил. Они считали его чокнутым. Парень ходил по лесам с огромной сумкой и видеокамерой, таскал домой трупы диких животных, ковырялся в них под мощным микроскопом на открытой гнилой веранде, потом хоронил зверей, а по вечерам играл на гитаре фламенко. Переливы его струн так брали за душу, что собаки на краю села выли, птицы кричали, люди плакали и любили друг друга. С приездом испанца на Острове Рафаила повысилась рождаемость. Правда, это не помешало местным стащить у Хуана высокоточный микроскоп. Зоолог рыдал, закрыв голову руками. Его прибор стоил баснословных денег. Сердобольная соседка посоветовала сходить к новому жильцу – бывшему менту, что купил за горой дом.
Так они и познакомились – потерпевший финансовый крах Анатоль и потерявший орудие науки Хуан. Батутовны тогда не было даже на горизонте.
Мужики выпили, обнялись, бывший следак взял боевой пистолет, и они ворвались в первую попавшуюся избу, выбив дверь сапогами. Анатоль схватил за грудки хозяина, приставил к артерии дуло и прохрипел:
– Где микьёскоп, гнида? Ща всех перестреляю, как курей!
– Да Сашка, Сашка-кривой заныкал его в погребе, – проблеял сухой мужичок, наполняя драные треники вонючими продуктами жизнедеятельности.
Анатоль швырнул засранца в угол и вместе с Хуаном направился на другой конец деревни.
– Откуда ты знал, что он скажет? – изумлялся по дороге испанец, еле успевая за высоченным, размашистым ментом.
– Да все они тут из одного говна сделаны! Ща расхерачим пару домов, найдем твой мегаскоп!
– Только бы они его не сломали, такой тонкий прибор, такой тонкий, – причитал Хуан, семеня рядом с Анатолем.
Следующую дверь друзья выбили бревном словно средневековые ворота. Реально кривой на рожу Сашка выскочил в семейных трусах и замахал руками, как связист на корабле.
– Я верну, верну, он на хрен никому не нужен, ни продашь, ни разберешь на запчасти! – Сашка побежал к погребу, подбадриваемый пинками Анатоля.
Из черной дыры грабитель вытащил огромный, замотанный в графитовый полиэтилен агрегат. Хуан бросился сдирать пленку и осматривать детали.
– Оптику спииздилии! Окуляры гдие? – завопил обрусевший до уровня крепкого мата испанец.
Слезы его брызнули на щеки, как жидкость омывателя на лобовое стекло. Анатоль схватил за шкирку кривого Сашку и шваркнул его о дверной косяк.
– Вопрос слышал, мразь?
– Вовчику отдал на продажу, да не берет никто, техника больно заковыристая. Я проведу, проведу к Вовчику.
К Вовчику уже направилась делегация из трех человек, причем двое шли на своих двоих, а третий волочился на импровизированном поводке из снятых с гвоздя штанов.
Вовчик – двухметровый амбал – попытался затеять драку, но Анатоль ловко заломил ему руку назад и прижал к дощатому полу. Барыга забил свободной ладонью по полу, признавая поражение. Затем компания снова спустилась в погреб – более широкий и сухой, чем у Сашки-кривого, и Вовчик достал из огромной спортивной сумки нечто, обернутое фланелью.
– Правильно с окулярами обращаешься, молодец, – подбодрил Хуан.
Окуляры оказались девственно целыми, мошенники под пинки были отпущены, микроскоп возвращен на веранду зоолога, оптика прикручена на место.
С тех пор Хуан с Анатолем стали неразлучны. Ходили вместе по лесам, проверяли данные с фотоловушек – испанец повесил на деревья и кусты с десяток камер, направленных на заранее разложенную еду, делился своей мечтой – надеть на всех «добрых» и «недобрых» лис GPS-ошейники, которые позволят наблюдать за ними как минимум два года, пока не села батарейка. Ну и, конечно, суметь приучить к себе животных настолько, чтобы можно было повлиять на их скрещивание прямо в дикой природе.
Анатоль поклялся во всем ему помогать, а местным мужикам пообещал отрезать пальцы, если с дерева пропадет хоть одна камера. Даже пусть ее унесет ворона. Поэтому жители Острова Рафаила установили график и трижды в день проверяли, на месте ли игрушки испанца и все ли с ними в порядке.
Вскоре Хуан принес своему спасителю щенка. Кто-то выбросил его с лодки за борт, привязав на шею камень. Но Муму из утопленника не получилось. Камень отцепился, и бедолага помаленьку, теряя силы, греб к берегу. В таком состоянии его увидел Хуан во время ежеутреннего заплыва. Нахлебавшись воды, щенок уже мало что соображал, поэтому зоолог сделал ему искусственное дыхание на берегу и уже дома у генерала – завернул в плотную тельняшку.
– Странно, уши и хвост купированы. Породистый, что ли? Зачем топили? – удивлялся Хуан. – Мне собаку держать нельзя, я лис отпугну. А тебе она пригодится, – подытожил он.
– На кой хрен? – уточнил Анатоль.
– Ты хотел золотой унитаз и борзых во дворе?
– Хотел.
– Этот заменит тебе все мечты, – Хуан с нежностью помассировал ушки и лапки псины.
Утопленника назвали Хосе, в честь школьного друга Хуана – Хосе Фулгенцио Чиро. Анатоль и сам не понял, как полюбил этого щенягу, который через полгода из дохлого хомячка вымахал в черного бульдога величиной с пубертатного медведя. Выстроили ему огромную утепленную будку и повесили табличку на калитку «Загрызет каждого».
Правда, Хосе оказался болезным. В первую же зиму отморозил себе яйца под отрубленным хвостом и как-то нереально коротко обрезанные уши. Генерал готов был запустить его в дом, даже в свою постель, но испанец его отговорил: