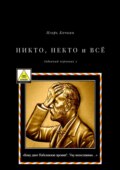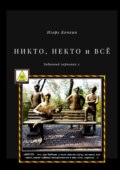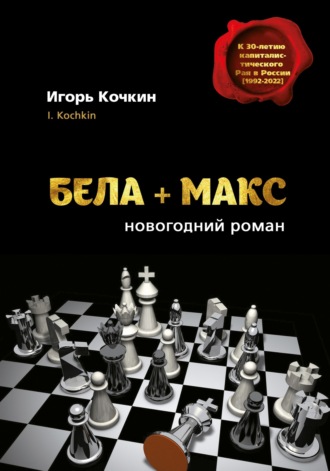
Игорь Кочкин
Бела + Макс. Новогодний роман
– Сейчас сажусь и пишу – с потолка! – сценарий. Тема – любая. Место действия – тоже. Пусть будет самая что ни на есть тмутаракань, где не ступала нога пишущей и снимающей братии. Через неделю показываю смонтированный материал.
Риск был. Отправиться в неизвестный город – первый фактор риска. Без предварительной подготовки потащить в командировку съёмочную группу минимум в пять-шесть душ, что стоило денег, – это второй фактор. Недельный срок на съёмку, на перелёты, на монтаж, на озвучку – третий фактор.
В случае, когда объекты определены и есть расписанный по кадрам сценарный каркас, и в этом случае недельный срок – есть риск. А приехать, что называется, с корабля на бал – риск стопроцентный.
Первый раз, если решился на такого рода авантюру и не привёз из командировки ничего, высокое руководство, возможно, холодно промолчит, сделав вид, что ничего особенного не произошло. Второй раз, если сорвал эфир, публично пожурят, вспомнив твои старые заслуги. Третий раз, если ты снова выкинул деньги на ветер, уволят без комментариев и выходного пособия. И можно рассказывать потом в пивнушке (соседям по кружке!), какие высоты ты штурмовал прежде. После одного-двух литров пива тебе охотно поверят. И не только поверят – будут, вполне вероятно, по-приятельски похлопывать по плечу: ну ты орёл!
Тем не менее мои авантюры (так получалось) не заканчивались крахом. Командировки удавались. Материал привозился. Эфир не срывался. Споры выигрывались.
Местные «тьмутараканьские» журналисты, когда наполеоновские съёмки были завершены и мы в моём гостиничном номере говорили про жизнь, попивая «Талас», нахраписто пытали:
– Как же так? У нас здесь, под носом, настоящий Клондайк тем! Клондайк историй! А мы?.. Мы, выходит, опростоволосились, проморгали сенсации, которые были рядом? А ты, пройдоха алма-атинский, всё пронюхал! Или тебя кто навёл?
Я отвечал:
– Никто.
(Хотя следовало ответить по существу; например, словами Хемингуэя, когда он разъяснял репортёрам магию создания (рождения) повести «Старик и море»: «Не было ещё хорошей книги, которая возникла бы из заранее выдуманного символа, запечённого в книгу, как изюм в сладкую булку. Сладкая булка с изюмом – хорошая штука, но простой хлеб лучше. Я попытался дать настоящего старика и настоящего мальчика, настоящее море и настоящих акул….» Другими словами: хотите увидеть вокруг «клондайки тем»? Перестаньте врать себе (и другим), выстраивая конструкции историй, объединённых глобальной Ложью.
Если выразиться ещё проще: не-секретный секрет моих успехов так же прост, как три советских рубля – не надо выдавать иллюзию за реальность, чёрное за белое, даже если это принято за правило большинством. Даже миллион навозных мух не убедят меня, что дерьмо – это вкусно.)
– Как так – «никто»? – На прямой вопрос мои коллеги хотели получить прямой ответ.
Я отвечал:
– Шахматомания.
На меня смотрели, как на человека, хватившего лишку.
По сути дела, секрет был не в спиртном. Была старая, со школы, страсть к математике, к моделированию ситуаций.
После куратовского звонка воспоминания нахлынули.
В комнате (несмотря на бубнёж телевизора) – звенящая тишина, не предвещающая ничего хорошего. Долгое затишье в природе заканчивается штормовым ветром.
О чём говорить? И без слов всё ясно.
Я нарушил молчание:
– А может, рванём назад, в Алма-Ату, – где наша не пропадала? Закатим с Костей пир на весь мiр. Потом я придумаю какое-нибудь выгодное дельце. И станем мы, как прежде, жить-поживать да добра наживать.
Моё предложение было встречено без энтузиазма.
– Только этого Максу (и мне в том числе) и не хватает: наш пострел везде поспел! – ответила жена. В голосе – металл. – Очень «сильно» нас ждут не дождутся в Алма-Ате: за четыре года там, я думаю, все глаза «проглядели и выплакали».
Бела (как и Левитин) была права: никто и нигде нас не ждёт.
Второй раз в одну и ту же реку не войти.
Не могу (обстоятельства обязывают) не продублировать предупреждение М. Салтыкова-Щедрина: «Не думай, однако ж, что я пишу идиллию и тем паче, что любуюсь ею».
Что есть для Истории эти четыре года?
Они даже не секунда – мгновение. И даже не мгновение, а много-много меньше мгновения.
Воды за четыре года утекло немало. Вот и слово «Алма-Ата» больше не найти на новеньких, пахнущих типографской краской картах мира. На его месте новое название – Алматы. И Алматы – уже не столица.
Прежней Алма-Аты нет. Нет того города, где всё (больше, чем всё) в наших делах получалось само собой. Будто Кто-то (неведомый и незримый) постоянно направлял нас.
Я смотрел на Белу. И понимал: любое напоминание об Алма-Ате отзывалось для неё болезненно. Так, как напоминает о себе застарелая рана.
Жену эта рана беспокоила особенно: в одночасье сменить благополучие и комфорт (а Алма-Ата ни с чем иным не ассоциировалась) на неизвестность Будущего и сомнительные перспективы – это что-то, да значило.
– Помнишь, что Тургенев сказал (словами своего героя) о разнице в логике мужчины и женщины? – через паузу, уже без металла в голосе, произнесла она. – «Мужчина может, например, сказать, что дважды два не четыре, а пять или три с половиной, а женщина скажет, что дважды два – стеариновая свечка…»[28]? Макс, тебе об этом «особа юных лет» разве не сообщила? Только, чур, без вранья!
– Конечно сообщила, – ответил я. – Как говорят в народе: стой – не шатайся, ходи – не спотыкайся, говори – не заикайся, ври – не завирайся. Против правды не попрёшь.
Про напоминание мне «особой юных лет», что у кого-то – жемчуг мелкий, у кого-то – щи пустые, я говорить Беле не стал. Зачем?
– Мне бы ваши проблемы! – возмутилась по-свойски, по-доброму Нина Николаевна. – У вас что: детишки голодными-холодными сидят? Они сыты, обуты, одеты. От зарплаты до зарплаты, слава Богам, не тянетесь. Машина есть. Жильё есть. Если решите – и в Минске квартирку приличную купите. Чего вам ещё не хватает? Да разуйте зенки-то свои! Всё у вас хорошо, горе вы луковое! Вот смотрю я и понять ничего не могу… – Н. Н. выразительно постучала указательным пальцем по лбу, – кому другому дать то, что у вас есть: не жизнь – малина! Мудрёные вы какие-то: сами себе закавык понавыдумывали и носитесь с ними, как с торбами писаными. Ох, и потеха!
Пересказав этот нехитрый монолог, при котором меня не было, Бела спросила:
– А может, Нина Николаевна права? Может, мы действительно с жиру бесимся? И с ума потихоньку сходим. Со стороны-то виднее?
Я ответил без сарказма. Но получилось так, что ответил, как отрубил:
– Разные люди нужны мiру.
Мудрее не придумать – «умник»!
Моя «крылатая» фраза относительно «разных людей» всегда страшно раздражала жену. В данном случае вообще попала точно в «десятку». (А лучше бы она улетела в «молоко».)
Что я имел в виду, говоря о «разных людях»? Это была простая формула, которая означала следующее: наш мiр устроен так, что места в нём достаточно для всех. Потому что мiр не может быть неким рафинированным образованием. В действительности (де-факто) он устроен так, что в нём «гармонично» (не гармонично) сосуществуют господа и рабы, филантропы и убийцы, добродетель и проституция, и так далее. То же можно сказать о многоярусной профессиональной ориентации. Мгновенно вычеркни, к примеру, из жизни всех ассенизаторов и сантехников – и мiр захлебнётся в собственных фекалиях (к тому, собственно, дело и идёт). Вычеркни, например, из жизни тех, кто доит коров, садит капусту, жнёт пшеницу, печёт хлеб, – и наш мiр помрёт с голоду. Одни президенты (в изолированном виде), интеллектуалы, философы и мыслители разных мастей (в изолированном виде), банкиры, промышленники и купцы (в изолированном виде) не выживут. Все они востребованы только вкупе. Чтобы каждой твари было по паре. И тогда летопись «славных» дел человечества не оборвётся на полуслове.
И ещё должен быть баланс: писателей – строго определённый процент (не больше и не меньше); не-писателей – строго определённый процент (не больше и не меньше); хороших-плохих, кучерявых-лысых, красавцев-уродов (и т. д., и т. п.) – строго определённый процент (не больше и не меньше). Всё в соответствии с нормой. (Кто эту норму установил? Или устанавливает? Этот guaestio[29] для «всезнаек» оставим открытым.)
Если баланс нарушен – жди беды, скорой и неизбежной. И ничего уже не поправить. Ничего.
Тараканы-паразиты (всегда и по всем правилам Техники Безопасности) должны сидеть по своим щелям. Сидеть и бояться. И совершать свои набеги, когда гаснет свет в человеческом жилище. А если… будут созданы условия, когда они хлынут из всех дырок и будут торжествовать при свете дня (как это случилось, к примеру, после апреля 1985-го), всем остальным придёт скорый кирдык. И вся гармония (автоматом) трансформируется в хаос. В хлам.
(N. B.: хаос в древнегреческой мифологии – это стихия, существовавшая до возникновения мiра, земли с её жизнью. (Близко к истине?) Употребив слово «хлам», не хватил ли я лишку? Словарь Ожегова трактует «хлам» как «негодные старые вещи, бесполезное, рухлядь»; в переносном смысле – «то, что следует выбросить (из головы, и не только), как ненужное, ничтожное».)
Поэтому я и ответил:
– Разные люди, дорогая, нужны мiру.
– Вот как? – с откровенной издёвкой спросила Бела. – Любопытно было бы узнать: а мы находимся в какой из крайностей: наверху – среди господ? или внизу – среди холопов?
– Мы? – опешил я. Было отчего опешить: нет ничего проще, как умничать (имитируя философствование) обо всём, в общем. Поэтому мне ничего не оставалось, как сказать: – Мы – ни в какой.
Фактически мы не находились ни в какой из крайностей.
Мы не находились нигде. Потому что перестали жить. Потому что давно не живём. Мы существуем. По инерции. (Нам – это уже смело можно отнести к категории постулатов, – не привалит необыкновенное счастье ассимилироваться в «новых» землях: гусь свинье не товарищ!) А проще сказать – мы вообще не существуем. Нас нет. Потому что мы не нужны нигде. И, судя по всему, нам уже никто не нужен.
Что я ещё мог ответить?
Кому, как не мне, было хорошо известно, что Белу (как женщину, как жену, как мать) никогда не интересовали аксиомы и философские формулы типа «разных людей»?
Её всегда интересовали конкретные мы: где есть эти «мы» и как эти «мы» устроены.
И главное было в том, что нам не в первый раз приходилось всё начинать с нуля. (Не в первый раз!) А это что-то, да значило.
А что, у Левитина – всё не с нуля?..
Марк Твен сказал, что «нельзя полагаться на собственные глаза, если воображение не в фокусе».
Салтыков-Щедрин выразился иначе: «ничем не ограниченное воображение создаёт мнимую действительность».
Я не мог представить себе ассимилировавшегося в новых землях Борьку в униформе (предположим) офис-менеджера, или торгового агента, или официанта питейного заведения с подносиком в руке – сорокалетнего дядьку с недельной небритостью, дикими манерами и пулемётными очередями: «Что желаете, мать вашу перемать, господа хорошие?»
Нет, таким я не мог вообразить себе Левитина. (Может, у меня воображение не в фокусе и я вижу действительность, которой нет?)
Да он в первую же неделю распугал бы всех, с кем пришлось бы иметь дело!
А может, он органичнее смотрелся бы в Кнессете (куда ему путь заказан)? Вряд ли.
Я также не мог представить себе Борю в роли дельца – респектабельного такого предпринимателя, надзирающего за собственным мясным (предположим) магазинчиком, где за прилавком суетятся в идеально-белой спецодежде его подопечные: «Вам кило фаршика? Из мясорубки? Ща мигом провернём! А может, свеженького филейчика?..»
Всё это (в моём представлении) не могло выглядеть правдоподобным.
Я мог бы (как в Алма-Ате) представить Левитина за режиссёрским пультом в студии. В принципе, это выглядело бы реально. Борька орёт в микрофон: «Первая камера – наезд! Вторая – на общем плане! Почему проблемы со звуком?..» И кофейная чашка, стоящая у него под рукой, летит на пол.
Только и за пульт в студии ему путь, по его словам, нынче заказан. Без него в Израиле хватает, кому сидеть за пультом: «в Израиле любят алию, но ещё больше не любят «олим».
– Это в Алма-Ате я был еврейской мордой, – хихикал по телефону Левитин. – А здесь я – руская морда. – Он сделал паузу. – Руская морда еврейской национальности! Бывает, что и руская свинья. Вот и вся разница. В Республике Казахстан должны жить казахи (по аналогии, что в Израиле должны жить евреи). А руские где должны жить? Нигде?..
Но как-нибудь я всё же должен был представить Борьку, которого знал как облупленного?
«Воображение правит мiром», считал Наполеон.
Я скорее мог бы увидеть Левитина за барной стойкой. Точно!
Он (в который раз) наливает в стакан водку и делает глоток, якобы последний. Люся – рядом и, в отличие от Борьки, трезва. Она готова привести Левитина в чувства, чтобы вернуть его к реальности любым предметом, который первым подвернётся под руку. Перед ней – бокал с соком, апельсиновым: может, им и воспользоваться?
Вот это совершенно другая картинка.
Если не лепить горбатого: Левитин теперь, в Настоящем, оказался в том месте, где следовало оказаться? Боря сам ответил на этот вопрос.
А я свои шансы, которые мне были (случайно и не случайно) предоставлены, использовал, чтобы оказаться в том месте, где следовало оказаться?
Есть (гипотетическая) версия, что каждый йог должен сделать в жизни три вещи:
Проглотить дерево;
Родить наследника;
Посадить слона в позу «лотоса».
Если не впадать в алогичные иллюзии – все три вышеизложенных пункта мне удалось выполнить. (И выполнить «блестяще».)
– «Случайными кажутся события, причины которых мы не знаем»[30], – улыбнулась Бела. – Твоя первая редакция журнала «Автомобильный транспорт Казахстана» – событие случайное? Это к вопросу о реперных точках.
– Здесь без вопросов: всё, что произошло в ноябре 1982 года, произошло совершенно «случайно», как и «планировалось», – улыбнулся в ответ я. – Всё в точности по Демокриту.
– Понятно: что и требовалось доказать.
Главный редактор журнала «АТК» Василий Яковлевич Захаров с минуту смотрел на меня, двадцатитрёхлетнего молодого человека, молча.
(Позже я узнал, что Захаров был фронтовиком и участником Парада Победы на Красной площади в 1945 году. Также он мог (вполне возможно) быть знаком с Магомедом Танкаевым (почему нет?), с Жуковым – вряд ли.)
Было непонятно, что привлекло внимание главного редактора. Вряд ли его заинтересовал мой внешний вид: распахнутое классическое пальто с поднятым воротником, вызывающе-безукоризненная широкополая классическая шляпа, белоснежный офицерский шарф на шее.
Эти шестьдесят секунд тянулись (по крайней мере, так показалось мне) угрожающе долго. Этого времени было достаточно, чтобы сообразить (раскумекать, в конце концов): Захарова решительно не интересовали ни мои дипломы, ни мои рекомендации от редакции «Боевого Знамени», на которые он даже не взглянул.
Я начинал догадываться, что могло бы стать весомым предлогом проявить ко мне интерес, – это имя. Доброго имени (как, впрочем, и недоброго!), которое бы было у всех на слуху, я не наработал.
Итак, я (улыбающийся непонятно почему и зачем) застыл у двери, не зная, куда деть мокрую шляпу, которую держал тремя пальцами левой руки, а главный редактор журнала, выходящего в свет стотысячным тиражом, продолжал, ссутулившись, сидеть за необъятных размеров письменным столом, заваленным бумагами, и с недоумением смотрел на меня.
– Корреспондентское кресло… – нараспев произнёс он, – у нас имеется… незанятое. Но!..
Под редакторским «Но!..» подразумевалось, что к завтрашнему утру у него на столе должен лежать мой материал о новом алма-атинском автовокзале: всё, разговор закончен, можно проваливать вон и приниматься за дело – а вы как хотели?
(Позже я выяснил, что этот автовокзал был бельмом в глазу у властей городских, республиканских. По причине долгостроя.)
– Будет ли это репортаж, проблемная статья или фельетон – не имеет никакого значения, – сказал мне на посошок Захаров. – Ни-ка-ко-го!
Значит, времени у меня – лишь полдня. Или целых полдня?
Не знаю, случилось ли что-нибудь неладное с наглой самоуверенностью, с которой я примчался в журнал, но из кабинета редактора я постарался выйти с достоинством…
Жизнь – та же шахматная партия.
Ровно два часа назад я и предполагать не мог, какими событиями взорвётся тот день, когда я, едва проснувшись, принялся за изучение толстой книжки под названием «Телефонный справочник г. Алма-Аты». В разделе «Газеты и журналы» «Автомобильный транспорт…» стоял первым. Поэтому, не напрягая себя дальнейшим чтением названий периодических изданий в алфавитном порядке, я набрал номер телефона. На другом конце провода мне ответили просто:
– Приходите через минут сорок.
– А почему не через сорок пять? – спросил я после того, как положил трубку телефона на аппарат.
Через сорок минут (оделся по-военному, как по тревоге, в парадно-выходные одежды – «портупея, кобура с пистолетом, сабля на боку», поймал тут же такси) я стоял в кабинете главного редактора.
Ещё через пять минут я вышел за дверь и тут же напялил на голову мокрую шляпу: рабочего времени у меня – четыре часа 30 минут. Не больше и не меньше.
С одной стороны, я был волен поступить так, как заблагорассудится. (Например, дать задний ход: шли бы они все лесом со своим автовокзалом!) С другой стороны, я был неволен (зашла туча за Солнце!) в своём решении: сказал бы редактор принести готовую статью через два часа – я бы из кожи вон вылез, но принёс бы через два.
На следующее утро мой материал объёмом в сто пятьдесят строк лежал на столе Захарова. В полдень Василий Яковлевич сухо поздравил меня:
– Вы зачислены в штат.
Таким образом, на выбор отправной точки своей карьеры у меня ушёл ровно день.
Белые начали партию: королевская пешка сделала первый ход: Е2 – Е4…
Предполагал ли я, что всё произойдёт так легко и быстро? Нет, не предполагал.
Если тебе двадцать три года, когда энергии через край (и ты не болен), об этом не думают.
Чего мне стоил материал о новом автовокзале в том (далёком) 1982 году?
Приехав в такси на объект (проявил оперативность), я обнаружил, что он (в принципе, формально) готов к торжественной церемонии открытия, хоть сейчас. Однако, облазив и исходив его вдоль и поперёк, вымокнув под дождём до нитки, я понял: работать здесь ещё и работать. До седьмого пота.
Поскорее добравшись домой, с тем чтобы «сесть» на телефон, я лихорадочно думал: с чего начать? Вспомнил хитрую улыбку Захарова. Старик неспроста сказал: «Пишите, что хотите! Хотите фельетон – пишите фельетон. Хотите репортаж – пусть будет репортаж. Хотите статью – сделайте статью. Ко-ро-че: как посчитаете правильным, так и сделайте – без разницы!»
Что хотел написать я?
Перекрёстные звонки по инстанциям, которые отвечали за досрочную сдачу в эксплуатацию столичного автовокзала (а в те времена все сдачи были досрочными), привели меня в состояние лёгкого умопомрачения. Одни чиновники валили всё на других чиновников, и никто, значит, не был виноват. Никто! А автовокзал, как проклятый, завис. Почему?
– А потому! – напускал таинственности каждый из моих собеседников. Разве они могли мне, ещё не состоявшемуся сотруднику «АТК», сказать что-то другое?
Я понял: чтобы добраться до истины, понадобится минимум полмесяца, а не полдня. А времечко летело вперёд, сокращая с каждой минутой отведённый мне срок.
И всё-таки: что писать?
Я положил перед собой стопку чистой бумаги. В итоге не получилось ни фельетона, ни проблемной статьи, а получилось нечто такое, где было всё, что я видел и слышал, однако не было и тени безнадёжности ситуации.
Захаров, просмотрев мой материал раз-другой, спросил напрямик, глаза в глаза:
– Так вы всё-таки за кого: за волков или за овец?
Мне хватило наглости ответить:
– Больше того, что написано, мне сказать нечего.
Дальше повторились вчерашние шестьдесят секунд паузы.
Про себя я, стараясь сохранять внешнее хладнокровие, размышлял:
Согрешил ли я против истины? Нет.
Представил ли чёрное белым? Нет.
Недосказал ли то, что логически следовало из фактической стороны дела? Пожалуй, да.
Если допустить обратное, когда мной было бы представлено то, что не являлось открытием ни для кого – часть денег разворована, та же судьба постигла стройматериалы, а бездарность организации строительства увеличила продолжительность работ вдвое; причём изначальной концепции реализации проекта не было вовсе? И что тогда? Отправил бы Захаров в печать мою писанину? Сомнительно.
А если (вопреки здравому смыслу) это всё-таки произошло? Наверняка бульдозер партийной идеологии размазал бы своими гусеницами и журнал, и главного редактора.
Что касается меня – я отделался бы лёгким испугом, но путь к доброму имени мне был бы заказан.
Пришлось бы Максу подождать лет десять, пока народу не объявят о – святая святых! – «Свободе Слова» (по Ельцину, в соответствии с методичками радио «Голос Америки»). А до тех пор пришлось бы походить в дворниках.
Василий Яковлевич, ссутулившись над письменным столом, ещё раз пересмотрел рукопись. С начала и до конца. С конца и до начала. В том числе по диагонали.
– У вас оказались все сыты, – проговорил он ровно, без эмоций. И добавил после паузы: – И целы: ну-ну.
Что это «ну-ну» могло означать (похвалу? разочарование?), я понял, когда на доске объявлений увидел приказ по редакции: «Зачислить в штат «АТК» на должность корреспондента…»
– Если серьёзно, я до сих пор не могу найти ответы на некоторые «пустяковые» вопросы.
– Например? – спросила Бела.
– 1. Почему я не наведался в редакцию «Боевого Знамени» (которая в 1974 году находилась на расстоянии километра от моего дома), чтобы спросить совета у майора Звягинцева: как быть с работой? 2. Почему я позвонил в журнал «Автомобильный транспорт…», о котором прежде знать не знал? 3. Почему по телефону мне ответил не секретарь и не рядовой сотрудник, что должно было произойти в 99,99 процентов из ста, а главный редактор?.. С лёгкой руки Захарова и началась (вдруг!) моя карьера.
– «Случайная встреча, по Ницше, – самая неслучайная вещь на свете», – улыбнулась Бела. – Может, на твои вопросы и ответы искать не надо? Есть такая поговорка: «Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов». Логичен вопрос: кому больше нужны «ответы» – единственному дураку? Или сотне мудрецов?
– «Ответы» не нужны только горбатым кретинам, – улыбнулся я.
– Вот как? Только им? «Меня привлекает ваш склад ума. Мы с вами похоже мыслим, с той только разницей, что вы безумны»[31].
После апреля 1985-го «горбатыми кретинами» мы окрестили тех, кто стал вылазить на свет из всех щелей в государстве под названием СССР. Бела не могла этого забыть. Тем не менее она устроила этот шутейный диалог: хотела развеселить меня? Ей это удалось.
Итак, начало партии на чёрно-белой шахматной доске было положено. В ноябре 1982 года мне был дан шанс (по возможности грамотно, не горячась) разыграть её.
Положительный исход этой партии (то есть карьера и благополучие) дался мне просто. И сложно.
Просто – потому что существовали устоявшиеся чёткие правила игры, определённые советско-коммунистическими порядками. Первый раз загляделся – потерял фигуру. Второй раз прохлопал ушами – потерял инициативу. Смог обойтись без грубых ошибок, да ещё провести одну, две, три, десять результативных атак – ты уже близок к королю противника и готов угрожать шахом, а может, и матом.
Сложно – потому что в ходе игры тебе могли бы переломать не только руки и ноги, но и надломить твоё «Я». А могли (случись ситуация игровой мясорубки) и вообще превратить в фарш – слишком уж много существовало разных «но» в те загадочно-парадоксальные времена. Тогда недостаточно было иметь лёгкое перо, холодную голову и ясную цель. Помимо всего этого, следовало ещё не ошибиться со вступлением в серьёзную игровую комбинацию: войдешь в неё рано – плохо, замешкаешься – ещё хуже. Но если уже ввязался в бой – придерживайся простого правила: делаешь – не бойся, боишься – не делай.
Мифы об СССР, где невозможно было сделать карьеру, – мифы и есть. Кто мог запретить шагать вверх, ступенька за ступенькой, по служебной лестнице? Партийцы?.. Это бред! Бред сивой кобылы.
Начало (дебют) в редакции «АТК», затем переход в газетный еженедельник, следом – работа на ТВ (когда круг моих героев расширился беспредельно:
от последнего пьянчужки до недосягаемых вельмож республиканской партийно-советской элиты) – всё пришлось ко времени. Не поздно и не рано.
Особая пикантная привлекательность (непривлекательность) той «расчудесной» поры состояла в том, что работать и жить выпало на разломе эпох: до 1985 года и после 1985-го. До перестройки и при перестройке. До Горбатого и при Горбатом: начало конца!
Какое же это было интригующее время, когда во власть пришла демократическая шпана (это позже о ней будут говорить как о предателях и подонках), до той поры тихой сапой обитавшая где-то в потайных своих местечках и вдруг вылезшая – все как один – на свет.
Они громче всех и кричали: «Перестройка! Гласность! Горбачёв!..»
А Горбатый тогда лихо куролесил по стране, заливаясь соловьём перед народом. Выступал без бумажки в руке.
Кто обратил тогда внимание на такие его «гениальности», как выражения «углу́ бить», «обóбщить»? Единицы.
Большинство были в восторге, что новый генсек не мямлил, как поздний Брежнев: «какой, однако, головастый – не то, что эти старые коммуняки!»
Когда рядом с ним появился ещё один (символический) персонаж перестройки – первая леди СССР! – стало ясно: стране скоро придёт полный и окончательный кирдык.
Вот и настало время, когда не надо блистать талантами (это не обязательно).
Другое дело – если у тебя престижная квартира в престижном районе. Если производитель унитаза в твоём туалете[32] из европейской страны. Если марка твоего автомобиля (ни в коем случае) не ВАЗ. Если на твоей шее и пальцах крутые цацки. Если одежда на твоём теле из забугорных бутиков, а не из совкового ЦУМа.
Бела тогда согласилась:
– Правильно: чтоб подруги завидовали, потому что у них отстойная бирка на нижнем белье.
Я ответил:
– И да пребудет с ними счастье!
Приход к власти «горбатых кретинов» потребовал равноценных «горбатых кретинов» везде, снизу до самого верха. В том числе и в СМИ. В 1989 г. на журнал «Наука и жизнь» было подписано больше 2 млн человек, «Технику – молодёжи» – 1,5 млн, «Радио» – 1,5 млн, «Юный техник» – 1,7 млн, «Юный натуралист» – 2,9 млн. Журнал «Моделист-конструктор» имел 1,7-миллионный тираж!
Сегодня знания, которые сообщали бы подобные издания, никому не нужны.
Массовым СМИ они не нужны, поскольку эти СМИ забиты «горбатыми кретинами».
В те годы мы открыли для себя Александра Зиновьева, читая в его трудах: «Теперь почему Запад аплодирует Горбачёву?.. Что вы думаете, Запад хочет, чтобы советские люди жили роскошно, были сыты? Ничего подобного! Западу нужно, чтобы Советский Союз развалился. Горбачёва похлопывают по плечу… Они говорят: действуй, Миша…»
Говорят, шанс найти себя (как и потерять) в такие времена увеличивается многократно.
Китайцы на этот счёт иного мнения: не приведи господи жить во времена революций! (На то они и китайцы.)
Всё и всегда у меня шло гладко? Конечно нет. Были и сердитые звонки наверх, в ЦК, в СовМин, от областных, городских и других начальников, недовольных «этим, бородатым».
(«Бородатый» – это я. Так за глаза меня называли в партийно-советской среде, с которой мне приходилось иметь дело; кроме того, я был на слуху как «молодой да ранний» – это для того, чтобы моё первое «метафорическое» имя звучало с ещё бóльшим пренебрежением.)
Были и правительственные телеграммы с ультиматумами урезонить и спустить с небес на землю «молодого да раннего». Были и такие «приятные» моменты, как повестки в суд.
(Хорошо, однако, получать повестки, когда за спиной у тебя Гостелерадио!)
Но всё складывалось более чем удачно: «к удовольствию» моих «доброжелателей», несомненные «минусы» в моём случае обращались в несомненные «плюсы». И чем страшнее были угрозы, тем бóльшим был резонанс от того, что я делаю и как я это делаю.
Конечно, возможностей с треском вылететь с работы был миллион. Одно неверное движение, один неверный ход могли превратить в мгновение все мои труды в пепел, в ничто.
Я не получил детский мат в три хода и не попал в ловушку, клюнув на лукавую жертву тяжёлой фигуры. Чтобы получить детский мат, надо быть просто олухом. В таком случае лучше не ввязываться в драку вовсе.
Я не допустил нелепых промахов и глупых ошибок. Поэтому не миновал меня (если выражаться языком гламурных журналов) звёздный час, не миновали и лавры.
Кстати, о не-парадоксальных парадоксах.
Особой любовью у высоких начальников я (как было сказано выше) не пользовался. Слишком необычно появлялись на свет мои «шедевры». И слишком необычную реакцию вызывали мои исследования действительности. Начальникам куда как проще было найти предлог и избавиться от меня (вместе с моими эфирными экспериментами на государственном телеканале).
Тем не менее ни у кого не поднялась рука это сделать: никто не решался пилить сук, на котором сидели и они тоже.
Очевидно, что вместе с пикантными «приятностями», которые приносили мои «неправильные» программы, мои боссы зарабатывали вполне законные очки: в начале недели их вызывали на «ковёр», где грозили лишением партбилета, в конце недели (на том же «ковре») выслушивали крики восхищения за воспитание новых кадров.
И так из недели в неделю: в понедельник мои бастыки [33] жаждали меня растерзать, а в пятницу кричали «Браво!» и требовали продолжения банкета. Что и получали (по установившемуся алгоритму) на полную катушку.
Нет, лучшие сюжеты рождаются не за письменным столом – это аксиома!
– Это аксиома… – повторила Бела.
Я выключил пультом звук телевизора. На экране замелькали немые картинки. Шёл дежурный сюжетец про шестилетие подписания Беловежских соглашений, про отставку первого (и последнего) Президента СССР: кадры хроники с Горбачёвым, Ельциным, Назарбаевым.
Смотреть без звука стало даже «интереснее», чем со звуком.
Скрипнули половицы в коридоре. Судя по всему, это Алик проследовал твёрдым шагом из спальни по направлению к ванной комнате.
В последней алма-атинской квартире у нас было три телевизора: в зале – «GoldStar», в детской – «Рубин», на кухне – «Юность». Но (парадокс!) они больше пылились без дела, чем работали по прямому назначению.
Я был сыт по горло ТВ на работе.
Бела обо всех новостях в мiре узнавала от меня. Поэтому причин проводить время на диване перед экраном не было никаких. Правда, Мирослава и Милана иногда включали свой телик, чтобы посмотреть мультики (когда повезёт): программ ТВ у нас тоже не водились.