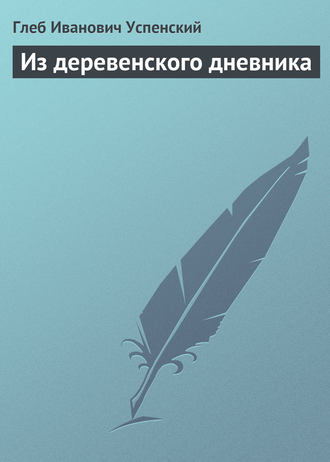
Глеб Иванович Успенский
Из деревенского дневника
4
Позволим себе привести еще три заговора, которые, как нам кажется, весьма характерны. Первый касается любви. Как мужчине или женщине приворожить к себе любимого человека? Любовный заговор, так же как и заговоры для злых дел, происходит со снятием креста, причем под левую пятку кладется крест, а под правую – хлеб. В руках влюбленный человек держит кусок сахару, приготовление которого в такой степени отвратительно, что его изображать не будем. Дело происходит в бане. Взяв в руки сахар и положив под обе пятки, что следует, надо проговорить: «Лягу не благословясь, встану не перекрестясь» и т. д. (все, что в прежнем заговоре насчет того, чтобы все знать). После слов «сатана-сатанище» – следует: «Помоги мне, сатана-сатанище, поймать, изловить… девушку (или мужчину), напусти на нее тоску-тоскущую, сухоту-сухотущую, в румяную кровь, в ретиво сердце, чтобы она на меня зрела и смотрела и с очей меня не спускала, где увидится, в уста целовала, думами не сдумывала, едами не заедала, питьем не запивала, паром не спаривала, водой не смывала… Как вкруг головы моей волоса виснут, так бы и она кругом меня висла. Запираю и замыкаю эти слова тридцатью ключами (насчет злых сердец – только один ключ), бросаю эти ключи в окиан-море: как не бывать ключам этим поверх воды, так не бывать бы поверх моего слова и силы». После этого сахар надобно дать в кофее любимому человеку, «в первом стакане», причем он (чорт) в то время, когда любимый человек будет пить кофе, должен дать знать о том, что заклинание услышано: он стукнет, прошуршит или пропищит. Если же это не случится, то заклинание не действует. «Только, – прибавлено в конце средсгвия, – нужно быть смелому и безбожному – тогда все скоро будет».
Заговор ружью, перед отходом на охоту, отличается еще большею страстностью: «Встану я, благословясь, и т. д. (сатаны-сатанищи нет и в помине), стану я, раб божий, на мать сыру-землю, помолюсь и поклонюсь на все четыре стороны, стану я свою Марью Марвинскую, огненную бойницу, лютую стрелу заправлять, и закладать, и заговаривать; ой же ты, Марья Марвинская, лютая стрела, огненная бойница, царь железа аравийского, не я тебя заправляю, не я тебя закладаю, и не я тебя заговариваю, а закладает тебя и т. д. сам господь Иисус Христос и мать божия, пресвятая богородица. Мать божия, пресвятая богородица засыпает свой сильный порох. Сам господь Христос закладает свою светлую пулю на зверя побегучева, на птицу полетучую, кровь горячую. Заложивши пулю и помолившись на все четыре стороны, пойду в далекое чистое поле, пущу далеко лютую стрелу. Не упадай, моя лютая стрела, ни на землю, ни на воду, ни в дерево стоячее, ни в колоду лежачую, а упадай, моя лютая стрела, на зверя побегучева, в птицу полетучую, в кровь горячую. Дуну, плюну я на мать сыру-землю; как моему плевку от моего дыхания не подняться, так бы этому зверю побегучему и т. д. не подняться от матушки сырой земли. Чтобы никому мою лютую стрелу не испортить, не околдовать, ни колдуну, ни колдунье, ни девке, ни молодице, ни старому, ни малому, ни сутуловатому, ни горбатому, ни встречному, ни поперечному, ни лихостливому, ни жалостливому, ни радостливому, ни с яву глядящему, ни со стороны смотрящему, ни исподлобья видящему, ни мне, самому охотнику, от белого тела, ретивого сердца, крови горячей и всем различным чинам по моим мастерским наговорам, зааминил господь и небо и землю, и зааминь, господи, мои словеса на веки веков» и проч.
Третий и самый, как нам кажется, трогательный и любопытный заговор – «если кто хочет забыть человека». Припомните эти рекрутчины, эти солдатчины, когда мать, жена расставались с любимым человеком чуть не на всю жизнь. Припомните эти мучительные ожидания весточки, эту годами угнетающую неизвестность, одиночество, тоску о милом дружке. Сколько тут муки-мученской!.. И вот создается заговор, чтобы забыть этого любимого человека, так как сам своей волей любящий человек не в силах этого сделать. Бедный, исстрадавшийся человек идет к чистому ручейку, три раза плещет на себя студеной водой и говорит: «Как я, раба божия, родилась чиста, так и меня очищай святая водица и матушка богородица… Как я забыл родительский день (то есть день рождения), так бы и мне забыть его ныне» и т. д.
Мы не коснулись и десятой доли сторон народной жизни, затрагиваемых народною книгой; но и то, что извлечено из нее, уж может дать понятие о той массе запросов, требований, желаний, таящихся в народе и не находящих удовлетворения ни в чем, кроме заговоров и трав.
Разнообразные формы ига сделали свое дело; но человек, как видите, остался жив, невредим, и душа его жива. Компетентные лица, близко знающие современный народ, утверждают, что он уж не довольствуется плодами собственной мудрости, не имевшей целые века благоприятной минуты для полного своего выражения, и ищет указаний у чужих людей, в работе чужого ума… Он берется на первых порах за евангелие.
Работы для будущего народного писателя, как видите, предстоит много, так как читатель у него будет, несомненно, многочисленный.
Приложение
От автора
Очерки, собранные в настоящем издании, появляясь первоначально в журнале «Отечественные записки» 77–79 годов, вызывали в журналистике немало отзывов и замечаний, иногда весьма резких: меня упрекали в непонимании народной души, в преувеличении дурных сторон народной жизни и, наконец, вообще в неправильном толковании явлений современной деревенской действительности. Во всех этих замечаниях и нападках, в укор мне, было указываемо на множество явлений народной жизни, совершенно противоположных тем, которых касаюсь я, и вообще лица, возражавшие мне, старались доказать, что народ сам по себе хорош, тогда как я будто бы только и хлопочу о том, чтобы доказать, что он дурен.
С полным уважением относясь ко всему, что было высказано возражавшими мне лицами хорошего и теплого о сером русском человеке, – я, однако, не могу оставить за собой приписываемой мне специальности – ругать народ, «чернить» мужика – и должен сказать два слова в объяснение того, почему именно в современной деревенской действительности мне бросились в глаза такие, а не другие явления.
Объяснение это будет коротко, если читатель сам потрудится припомнить мнения, господствующие в обществе и литературе, относительно интеллигенции и народа, в то время, когда писались эти очерки. В общих чертах это было время, когда так называемые внутренние вопросы оказались бесплодно утомительными – в общем внимании отошли на второй план, когда так называемый интеллигентный человек стал как бы успокаиваться в апатичном сознании своей гнилости и негодности, и на сцену выступили общие рассуждения о народном духе, о его силе, и крепости, и мягкости, и будущности, и т. п., – рассуждения более общие, хотя и восторженные, и в то же время совершенно невнимательные к действительному состоянию народного духа.
Под влиянием таких усыпляющих веяний времени мне пришлось быть в деревне, причем самое поверхностное наблюдение над ее настоящим житьем-бытьем прежде всего и сильнее всего показывало мне, до какой степени несправедливо и невеликодушно со стороны русского человека, именующего себя интеллигентным, успокаиваться в сознании собственной негодности и ровно ничего не делать для миллионной массы народа, только что начинающего оттаивать после крепостной стужи и жить своим умом. Дело трудное, работа черная, упорная, иногда ожесточающая сердце, – на каждом шагу ждала, как мне казалось, именно этого интеллигентного человека, и вот почему, если действительно в моих очерках собрано более дурных черт, чем хороших, то черты эти должны были служить не укором серому человеку, а напоминанием человеку образованному о его обязанности работать для блага народного.
Если читатель, просматривая наши очерки, будет иметь в виду это объяснение, то есть будет смотреть на непривлекательные явления деревенской действительности как на доказательство равнодушия к народу человека образованного, – то, может быть, и не посетует на меня за то, что я в наблюдениях моих почти вовсе не касался таких черт народной души и жизни, которые, несмотря на всю свою привлекательность, вовсе не касались задачи, лежащей, по моему мнению, на человеке не деревенском.
Что же касается до внешних недостатков предлагаемых очерков – отрывочности, недоделанности и т. д., – то я заранее признаю справедливым все, что может быть по этому поводу сказано читателем, но делать из маленького большое – невозможно, и вот почему очерки являются в этой книге без всяких изменений[25] против первоначального текста.
Отрывок четвертый[26]
Вот именно на эту-то вторую недоимку[27] деревенского житья-бытья я и желал обратить внимание читателей, когда писал мои деревенские заметки. Недоимка, как видите, вполне ясная и внимания достойная, и однако, как это ни странно, заметки мои подверглись обвинению. Обвинений этих я перечитал и переслушал не мало, и хотя я очень хорошо сознаю, что писать к каким-то заметкам еще какие-то комментарии дело не особенно дельное, но, ввиду такого обвинения, как «измена», считаю нужным не то чтобы оправдать, а досказать недосказанное. Это, между прочим, даст мне еще и случай взглянуть на деревню с новой, также небезинтересной стороны.
«Не потрафил» я моими заметками, как мне кажется, главным образом потому, что в настоящее время в литературе возник какой-то странный, небывалый взгляд на положение народа – взгляд, если можно назвать (как говорят дети.) – неправдышный. Происхождение такого неправдышного взгляда, как мне кажется, можно объяснить следующими обстоятельствами.
Утомленные сознанием трудности переживаемой минуты, общество и печать (кто раньше, кто позже – судить не берусь) пожелали облегчить свое положение, как бы сговорившись «не думать» об этом положении, – думать о другом. Такое намерение делается совершенно понятным и основательным, если только представить себе, в каком, в самом деле, ужасном состоянии находилась недавно душа русского человека, как бы случайно, на живую нитку, пристегнутого к европейским порядкам. Русский человек неожиданно узнал, что эта живая нитка – не нитка, а канат, и узнал силу этого каната именно в ту минуту, когда только что было стал приходить в себя, строить планы, думать, жить. Русская душа оживала, начинала ощущать присутствие совести; русская мысль, впервые попробовавшая расправить крылья, понеслась было, как птица, ввысь, понеслась смело, фантазируя, не стесняясь и все норовя устроить по-новому… И вот именно в эту-то торжественную минуту пробуждения русский человек с ужасом увидел, что он уже жил, что он не юноша, что он уже поврежден и не может дать ходу своим новым побуждениям. Смелость мысли, возникавшая в нем, парализовалась привычной трусостью; раскаяние в прошлых неправдах побивалось непобедимою потребностию держать ухо востро и т. д… И вот с этой минуты началась для него не жизнь, а каторга. Как белка в колесе, стал вертеться русский человек в кругу противоречий, созданных для него временем: от мысли переделать весь свет он перескакивал к мысли набить свой карман; набивая карман, каялся и, раскаиваясь, пугался и думал только о собственном спасении. В таком положении он стрелялся, выбрасывался из окон, принимал яд и, разумеется, переставал страдать, но тот, кто не принимал яду, не бросался с четвертого этажа на мостовую, тот изнывал, томясь тем нравственным нулем, который образовывался из этих плюсов и минусов, побивавших один другого в самой глубине его души.
В таком состоянии измученному обществу пришла мысль остановить маховое колесо европейских порядков, увлекавшее нас на ненавистный путь всяческой неправды, нас, которые не хотят ее, которые хотят по чести, по совести и всё такое… И вот в спицы этого колеса стали засовывать разные препятствия, оказавшиеся, впрочем, весьма ненадежными: колесо продолжало размахивать, вышвыривая те, большею частию бумажные, препятствия, которыми хотели его остановить… Славянская раса, славянская идея, православие, отсутствие пролетариата и т. д. – все это, доказанное на огромном количестве листов бумаги, было смолото и растреплено не перестававшим махать колесом, которое как бы говорило при этом русскому человеку: все это вздор! Пролетариат у тебя и есть и будет в большом количестве… Ты фарисей! Обманщик, сам обворовывающий себя и жалующийся на какую-то Европу! обманщик и лжец! трус! лентяй!
Сербская война[28] была опытом на деле доказать, что все обвинения, раздававшиеся собственно в сознании каждого, кто хотел доказать, – неправда… Было двинуто все, что только считалось силою и орудием сопротивления. Тронулись с хоругвями, с причтом, с колоколами, даже чудовских певчих[29] с неистовыми басами двинули из Москвы через Вену, по Дунаю, прямо на аванпосты Мухтара-паши[30]… По части национальной идеи была предъявлена широкая деятельность славянских комитетов[31]; была предъявлена доброта русского сердца, беззаветность, безответность, беспрекословность, бестрепетность и безропотность… Была предъявлена также отчаянная храбрость, готовность к смерти, даже как будто желание смерти, отвага, говорившая – «ну бей! бей! ты думаешь, я побоюсь!» Было предъявлено бесстрашие, достигавшее безумия, и хладнокровие, почти граничившее с умопомрачением. Такие крупные характерные черты, само собой разумеется, не могли не перемешиваться с чертами мелкими, хотя и также характерными: была, между прочим, предъявлена русская ширь, душа нараспашку, а с тем вместе предъявлен был и кулак, и скула свороченная как-то сюда замешалась, и значение слова «учить» было разъяснено. И над всем этим носилось достигшее почти европейских размеров лганье прессы…
И, несмотря на то, что было поднято на ноги все, что есть в наличности самого сокровенного, – вышло… Что вышло? Положа руку на сердце, можно сказать, что вышло – невесть что! В конце концов оказалось, что кто-то нажился, «зацапал в карман» – и все! После этого что ж такое происходило? И почему в конце концов только и слышишь: «виноват!» Виноват тот, виноват другой, виноваты сербы… В чем виноваты? Разве тут что-нибудь худое случилось?..
Действительно, случилось очень худое. Оказалось, что западноевропейских язв в русском человеке так же много (или почти так же), как и в его подлиннике, да, вдобавок, и неевропейские-то черты русского человека также оказались с язвами.
Между тем, попав вместе с обществом, быть может по неведению, на ложную дорогу самовосхваления, самопрославления, литература не могла, как не могло и общество, сразу отдаться еще горшему, чем прежде, разочарованию. После этих торжеств сказать себе: «будет!» и приняться за трудную работу над самим собой, за беспристрастное изучение обнаруживавшихся язв – дело нелегкое, и как общество, так и литература не могли сделать этого вдруг. Прокляв интеллигенцию, которая залезает в сундуки, страдает раздвоенностию и мелкодушием и т. д., они всё сочувствие сосредоточили на народе, но опять-таки не в смысле сочувствия его действительному положению или его терпению, с которым он его переносит, – нет! Появилось какое-то слащавое, чтобы не сказать слюнявое, отношение к народу. В то время, когда интеллигенция, ее недуги, скорби и язвы разрабатывались довольно подробно и дельно, всякое деловое отношение к народу считалось как бы неуместным. Народ стали просто хвалить за его непочатое, непосредственное чувство, а о том, в какой школе воспитывается это чувство, по какой дороге оно идет и пойдет – об этом не говорилось.
Говорилось вообще примерно так, – делаю небольшую выписку из одной статьи газеты «Неделя» 1876 года. Статья называется «От себя или от деревни?»[32], и вот что, между прочим, в ней пишется:
«Проезжий в этих местах – большая редкость; поэтому, если станция приходилась в деревне, обыкновенно собиралась толпа поглазеть… Усаживаемся это, бывало, с своей свитой: в пасмурную погоду сделают тебе кибитку, натащат рогож, и вот собравшиеся от нечего делать крестьяне начнут укутывать и снизу, и с боков, и спереди, чтоб нигде не промочило, точно своего родного выправляют. Врезалось мне лицо одного парня – одно из славных русских лиц; он более всех старался и, кончив, весело сказал: «ну, теперь ладно, не проймет!» Что я был этим людям? Что они мне? Откуда такое почти родственное участие к проезжему?»
Что ему Гекуба?..[33] И вот на этом-то факте строится целая теория, доказывающая, что все спасение общества лежит в глубине «непосредственного чувства, насквозь проникающего душу и тело (!) простого человека». Признаюсь, я вовсе не вижу, чтобы в вышеописанном подвиге было что-нибудь такое, от чего можно было бы приходить в умиление, так как для того, чтобы обернуть проезжему ноги, да притом «от нечего делать», да еще в деревне, где «проезжающий большая редкость», вовсе, мне кажется, нет надобности в каких-то особенных, исполинских размерах нравственного чувства, проникающего будто бы не только душу, но даже – страшно сказать – самое тело, да притом еще «насквозь»!
Уж ежели на этом строить радующие и радужные теории будущего, то какую блистательную будущность должен я предсказать так называемому гнилому Западу, на основании следующего факта: один гнилой западник, с которым я ехал на омнибусе в проливной дождь, проехал лишних три или четыре длинные парижские улицы (тогда как ему давно надо было слезть) потому, что у меня не было зонтика, и он держал свой зонтик надо мной! Если прибавить к этому, что проезжающих в Париже будет несколько более, чем там, где ездил автор вышепоименованной статьи, что они не составляют предмета развлечения и что, наконец, человек этот сделал доброе дело не от нечего делать, а в силу сознания какой-то обязанности, то во сколько раз этот поступок будет выше поступка «одного из славных русских лиц», воспеваемых автором. Да и, кроме всего этого, меня, признаться, берет сомнение насчет одного обстоятельства: мне почему-то представляется, что при этих обоюдных симпатиях барина и «славного лица» дело едва ли обошлось без мелочи, так что-нибудь вроде двугривенного… Право, должно быть что-нибудь тут непременно промелькнуло, какое-нибудь «с вашей милости», или просто так: «на, мол, тебе, спасибо!» и, конечно, «благодарим покорно!»
Очень может быть, впрочем, что я и ошибаюсь. Я согласен, что иной раз в кармане не бывает мелочи, и тогда непосредственное чувство проникает насквозь без всякого гонорария… Но и тогда непосредственное чувство все-таки никак не может служить характеристикой народных доблестей, и строить на нем одном что-либо прочное и величественное для будущего не представляется никакой возможности.
Судите сами: среди площади, на сельской ярмарке, происходит драка, толпа окружает дерущихся, так как такие явления вообще редки, и посмотреть на них любопытно. Но посмотрите, что делает это же самое непосредственное чувство, проникающее насквозь…
– Хорошенько его, хорошенько! – раздаются голоса. – Рыжий! Рыжий! в бок его, лысого, суй. Суй его по боку-то, по боку-то… Эй, лысый, не плошай! Дуй его, рыжего-то, в сусалы, эх, прозевал, – и т. д. И что ж! Благодаря этим советам людей посторонних, собравшихся посмотреть на битву от нечего делать, уже и в самом деле насквозь пробивают бока, причем не обходится без смеху, также безыскусственного.
Вот на таких-то тоненьких, как пленка кипяченого молока, как папиросная бумага, фактах стали выстраиваться в литературе добродушные, милые взгляды на народ. Можно даже сказать так, что литература стала строить народу глазки. «С этаким-то сердцем (и тут факт: один мастеровой дал закурить папиросу и не спросил за это на водку), как у такого народа, да это что ж такое будет!» – на разные тоны возглашали народные любители и плодили таких любителей в публике. «Народное горе», горе темного царства с Тит Титычами и Катеринами, горе сел, дорог и городов[34], горе деревенской избы, деревенской женщины, горе лошадиного и бесплодного труда, горе бесплодных страданий, и т. д., и т. д. – все это исчезло из области литературного внимания, пошли в ход «славные» лица, молодцы ребята, непосредственное чувство, непочатые углы смиренномудрия и целомудрия и т. д.
Особенно удобно, для всех не желающих унывать, это неправдышное направление было тем, что, рассуждая и хваля, оно не брало почти никогда фактов из текущей действительности. Факты эти были в изобилии, но они обыкновенно ставились без всяких комментарий, случайно, как обгорелые пни на цветущей долине лжесвидетельства. И замечателен еще маневр, проектируемый этим миловидным направлением: всякий раз, когда дело касалось положения народной мысли, всякий раз, когда простых, бездоказательных выхвалений оказывалось недостаточно, а необходимо было дать читателю нечто осязаемое, представители направления ловким маневром устремлялись в глубину истории… «Как так, – говорили они: – русская народная мысль не действует, не живет? Кто это говорит? Кто говорит, что раскол, например, похож на старый сапог?» И для того чтобы показать, что этот сапог не стар, современная его дряблость начинала освежаться давно прошедшей жизненностию происходивших в нем явлений, и выходило не только хорошо и умно, а, прямо сказать, блистательно, до того блистательно, что, глядя на стоптанный сапог, невольно думалось: уж не во сне ли я?..
Удивительно миловидное вырабатывалось направление: скользкое, как налим, ускользающее от всякого подозрительного рассмотрения, и в то же время жирное, приятное, как налимья уха!.. Оказывалось, что мысль народная не только не мертва, но, напротив, живуща, бурлива… Правда, бурлит она там где-то, невидимо, но это и хорошо, пусть ее копается в своих подземных дырах, не мешайте ей, вы только испортите! Вы интеллигентный, гнилой человек, наживайте себе деньги, получайте оклады, но, ради самого создателя, не трогайте народ, не суйтесь к нему с своим «головным» недугом… Ради самого бога!..
—
При таком-то странном взгляде на русский народ, когда стали восхваляться разные качества этого народа, независимо от условий, в которых им приходится развиваться, мои деревенские заметки, разумеется, должны были произвести весьма неприятное впечатление: читатель только что было изобрел средний, сочувствующий меньшему брату и ни к чему не обязывающий взгляд, только что успел поуспокоиться, и вдруг, вместо милых «деревенских домиков», вместо «славных русских лиц» и т. д., являются какие-то шершавые, корявые, плохо пахнущие деревенские картины, хотя не было сомнений, что лица у всех этих не понравившихся читателю людей были – лица славные, симпатичные, хотя и сердца у них были чудесные и непосредственного чувства было много. Я не отрицал ни единым словом всех этих прекрасных качеств, я только хотел сказать, что качества эти, воспитываясь в известной школе, могут принять то или другое направление, что и в доме Вяземского; на Сенной[35], родятся, и живут, и развиваются невинные дети, но что условия, в которых находится этот дом, невольно направляют нравственные и умственные силы невинного, симпатичного, талантливого ребенка по известному направлению. Люди, нападавшие на меня, умалчивали о месте, в котором помещается материал, а толковали только о том, что материал этот превосходный; я же, не отрицая превосходных качеств материала, хотел только сказать, что именно происходит с этим материалом и в каких условиях он находится. Вот и вся разница.
Пренебрегать условиями, в которых живут русские люди, полагать, что добрых качеств русской души не могут изменить никакие внешние давления, – нет никакой возможности. Вся история с Сербией, очевидцем которой пришлось быть и пишущему эти строки, как нельзя лучше доказала в конце концов, что школа, в которой воспитывается русский человек, уже пожинает плоды своих усилий. Разносторонность, разнообразие природных качеств и навыков, которыми вообще русский человек блистал перед иностранцем, тем не менее вовсе не препятствовали тому, чтобы из самого широкого, свободного, обставленного всевозможными удобствами проявления этого разнообразия не получился бы в результате такой скучный нуль, какой получился. В русском человеке есть все, только он сам не знает, что именно ему-то самому нужно, и от этого он способен исполнять решительно все…
В виду огромного значения, которое имеет система воспитания, в виду уже получившихся результатов этого воспитания нельзя было не обратить на нее внимания и при изучении деревни. Ошибка моя состояла в том, что я в моих заметках показывал большею частию только результаты. Вот муж, продающий жену, вот человек, желающий только набить карман, а зачем набить – разберемся после и т. д. Читатель, также не обращавший внимания на систему воспитания и принесенные ею плоды, не мог быть доволен этими невеселыми картинами, увлекаясь славными лицами и непосредственными чувствами. Между тем, зная педагогические условия, в которых находятся эти непосредственные чувства, а главное, зная, что в деревне не только нет даже тени чего-нибудь равносильного этим условиям в смысле отпора, читатель, может быть, не так бы негодовал на непривлекательные поступки некоторых деревенских обывателей и, пожалуй, разглядел бы, что и у мужа, продающего жену, тоже одно из славных русских лиц. Недавно вот было напечатано в газетах, что арендатор одной мельницы подговорил своих рабочих убить, покончить с хозяином, у которого он эту мельницу арендовал. Чтобы склонить рабочих на свою сторону, он дал им на пропой по четвертаку и обещал двадцать пять рублей, когда дело будет кончено. Дело было кончено успешно в ту же ночь, и я покорно прошу объяснить мне, какую именно роль в этом чарующем значении четвертака играет незначительность надела, обилие налогов или недоимки и т. д. Нетрудно видеть, что принять грех на душу и за двадцать пять рублей не было никакого резону, потому что эти двадцать пять рублей вовсе не такие деньги, чтобы на них можно купить земли, уплатить подати, словом, «поправиться». Словом, никакими корыстными, экономическими, даже политическими соображениями объяснить такое явление невозможно, если не обращать внимания на педагогические условия русского народа. Признаемся, нетрудно догадаться, что ребята, которые услужили г. арендатору за четвертак, – суть именно те же самые славные лица, которые с такой заботливостью укутывали ноги господину проезжающему. Непосредственное чувство играет в обоих случаях одинаковую роль, подчиняясь в первом случае состраданию к промокшему проезжему и желанию рассеять скуку, а в другом желанию – не убить, нет, боже сохрани, – а просто желанию выпить… Хозяин, очевидно, знал момент, когда завел речь о четвертаке, – и, благодаря водке, все это каким-то образом и произошло.
Итак, в каких же собственно педагогических условиях находится в настоящее время деревенский житель, и главным образом молодое деревенское поколение? Сравнивая прошлое с настоящим, с уверенностию можно сказать, что крепостное право, несмотря на всю свою беззаконность, имело перед теперешним полноправием одно несомненное преимущество, именно искренность этой беззаконности. «Что хочу, то делаю» и «ты мне подвержен» – эти два положения, управлявшие русскою деревнею, были до такой степени всем деревенским жителям явно беззаконны, что решительно не было никакой надобности заподозривать в отношениях к помещику какой-нибудь подвох. Дело было совершенно ясное; оставалось только изучать владельца, изучать его повадки, прихоти, привычки… Хоть и не всегда помещик представлял собою предмет, достойный изучения, тем не менее крестьянской мысли была работа, было о чем подумать, а главное, была некоторая мирская связь в виду одинаково над всеми стоящего беззакония. Благодаря этой мирской связи одинаковость условий могла иной раз даже крепко сплачивать крестьянскую среду, могла сосредоточивать деревню на каком-нибудь намерении и т. д. Нет сомнения, что порядки были безобразные, но безобразие их было явно, просто, бесхитростно. Теперь не то. Теперь деревенский житель опутан каким-то туманом, сбивающим неопытного человека с толку и пути. Теперь деревенского человека уверяют, что он так же свободен, как и помещик, говорят ему, что он сам управляется с своими деревенскими делами, словом, как будто поднимают его из ничтожества и как бы даже желают, чтобы он не слишком робел, встал бы на ноги, оправился… А между тем во всех этих, повидимому самых гуманных заботах, одновременно с ними, переплетая их тонкою, но цепкою нитью, тянется какая-то нескончаемая фальшь и даже лицемерие. Деревню, например, уверяют, что в своих личных делах она такой же хозяин, как и помещик, – и точно, деревня является самостоятельной единицей, когда платит повинности. Но вот помещик поехал в город, заложил имение в банке, привез деньги, прикупил земли; а попробуй сделать ту же операцию деревня, – ей не поверят денег так, как поверили помещику… Крестьянский мир уверяют в том, что он самоуправляется, что в его домашних делах никто ему не помеха, а между тем сельского старосту – о значении которого для деревни читатель может судить из рассказа об Иване Васильеве – может сменить непременный[36] член, то есть человек, совершенно миру посторонний, ничего в деревне не знающий и не понимающий. Деревню убеждают заводить ссудные товарищества, дают ей денег, говорят, что это ее облегчит, поможет и т. д. И с виду как будто бы оно так и есть, – а попробуйте как следует изучить устав[37], который составляется не в деревне, и вы решительно будете не в состоянии решить вопроса о том, например, в каких размерах надо выдавать ссуду: в одном месте сказано, что можно выдавать в три раза против суммы внесенного пая, и, узнав об этом, член товарищества говорит: «Вот это ловко! Хорошо! От эвтого польза будет!» А тут же рядом весьма категорически объявляется, что можно выдавать только треть, то есть на три внесенных рубля как будто можно выдавать и девять рублей, и в то же время нельзя дать больше четырех… В первом случае крестьянин рад платить по копейке с рубля – он получает, кроме своих трех, еще шесть рублей лишних, – а во втором ему, кроме своих трех, приходится получить только один рубль лишних денег, а платить надо и за свои же собственные деньги три копейки, то есть делать нечто невозможное: платить проценты за собственные свои деньги!..
Вот такою-то гуманностью проникнута вся почти современная педагогическая система деревни. С великим трудом, путаясь в этих правах, натыкаясь на плетни, преграждающие путь к этим правам, спотыкаясь и недоумевая на каждом шагу, деревенский житель, стремящийся доподлинно узнать, в чем же дело, что ему можно и что нельзя, встречает сухой, мертвый взгляд педагога, вместо ожидаемой, по сладости речи, симпатичной, доброй физиономии.







