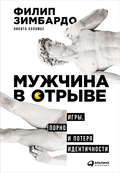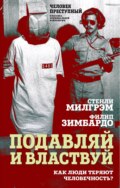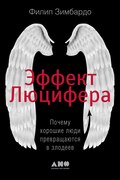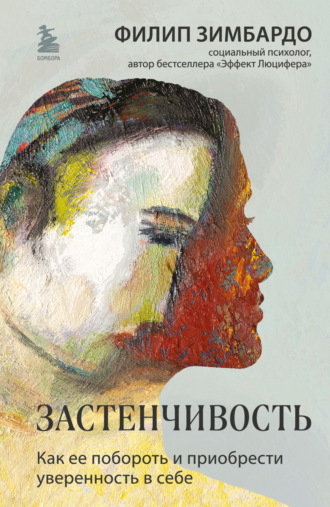
Филип Зимбардо
Застенчивость. Как ее побороть и приобрести уверенность в себе
Чрезмерное эго – значит застенчивость
Психоаналитические подходы к изучению застенчивости примечательны тем, что они все объясняют, но ничего не доказывают. Они наполнены сценариями столкновений между различными внутренними силами человека, возведения защитных механизмов, нападений, перегруппировок сил, скрытой «партизанской» войны, противостояний двойных агентов и секретных шифров, ждущих своей разгадки. Поскольку большая часть теоретической базы опирается на общие понятия и абстрактные концепции, то ее практически невозможно научно опровергнуть. Она «верна», потому что она не может позволить себе быть «ошибочной»[18].
Зигмунд Фрейд – основатель психоанализа – разработал эту теорию, опираясь на свой опыт лечения страдающих неврозами пациентов Викторианской эпохи. Психологические отклонения и расстройства Фрейд рассматривал как дисгармонию между Оно, Я, СверхЯ – тремя основными структурами личности. Оно относится к инстинктивной, увлеченной стороне человеческой натуры. Я – та часть личности, которая воспринимает реальность, учится всему, чему может, и контролирует целесообразность практических действий. СверхЯ выступает в качестве голоса разума, блюстителя моральных норм, идеалов и социальных табу.
Задача Я заключается в том, чтобы уравновешивать страстность Оно и требовательность СверхЯ. Когда Я справляется со своей задачей, то модели поведения выбираются таким образом, чтобы удовлетворить потребности Оно, не нарушая при этом моральных и социальных условностей СверхЯ. Однако этот механизм, подобно любому договору, иногда не срабатывает. Инстинктивные потребности Оно постоянно всплывают на поверхность то тут, то там. Наиболее сильными из них являются сексуальность и агрессивность, и для СверхЯ не существует приемлемых вариантов, когда можно было бы позволить им диктовать свои условия. Именно так возникает основной конфликт между желанием и запретом.
С этой точки зрения застенчивость рассматривается как некоторый симптом. Она представляет собой реакцию на неудовлетворенные первичные потребности Оно. Среди таких потребностей можно назвать Эдипов комплекс мальчика, претендующего на всеобъемлющую любовь своей матери и исключающего всех возможных конкурентов, включая отца.
В различных работах психоаналитиков застенчивость ассоциируется с отклонениями от нормального развития личности, нарушающими гармонию между Оно, Я и СверхЯ. Отдельные примеры помогают нам понять взгляд психоаналитиков на возникновение застенчивости.
Вот как объясняется поведение Джона, застенчивого молодого человека, через описание его склонность к эксгибиционизму:
Неудовлетворенная потребность в материнской любви в сочетании с Эдиповым комплексом привела к возникновению страха кастрации, усугублявшегося тем, что его отец в реальности был по-настоящему пугающим человеком. Уже в подростковом возрасте, по мере полового созревания, влечения Джона приобрели откровенно кровосмесительный акцент. Как следствие, любой сексуальный интерес воспринимался как табу, что и привело к развитию застенчивости. Акты эксгибиционизма для Джона стали возможностью выплеснуть подавленные переживания. Его извращенная сексуальность была перенаправлена на замещающий объект (незнакомых, не связанных с ним кровными узами женщин) в качестве защиты от недопустимого влечения [по отношению к матери]4.
Нью-йоркский психоаналитик Дональд Каплан расматривает застенчивость отчасти как результат зацикленности Я на самом себе (то, что называют нарциссизмом). Парадоксально, но застенчивые, непритязательные и скромные пациенты, которых он наблюдал, оказывались враждебными и одержимыми фантазиями людьми. Причем их переживания искажаются, потому что не могут найти себе прямого выражения:
…Травмирующее влияние некоторых событий на застенчивого человека начинается с перемещения «грандиозной опасности» из той сферы жизни пациента, где эта опасность действительно существует, туда, где она субъективно приобретает более сглаженные и мягкие формы. В нашем случае страх, воплотившийся в «симптомы» застенчивости – в боязнь оказаться отвергнутым, покинутым, проигнорированным, – переносится на некоторые события, где он может быть выражен в форме, не представляющей реальной угрозы для человека…
Я также нахожу существенным тот факт, что глубоко застенчивые люди склонны к грандиозным фантазиям, доставляющим им огромное удовлетворение. Яркие и продолжительные мечтания наяву являются характерной особенностью клинически застенчивых пациентов…5
Другие психоаналитики акцентируют внимание на процессах психологического обособления ребенка от матери и на развитии понимания им собственной индивидуальности. Если такое обособление происходит преждевременно, когда мать еще не успела до конца исполнить свою роль защитницы и опоры, это приводит к травматизации. Это все равно что отправить Я в плавание на бумажном кораблике, когда горизонт затягивают штормовые тучи. Психоаналитики указывают, что бросить таким образом Я на произвол судьбы значит в будущем сформировать у человека страх перед неопределенными жизненными ситуациями. Такого рода страх является отличительной чертой чрезвычайно застенчивых людей6.
Не следует забывать, что большинство психоаналитиков в своих размышлениях о причинах возникновения застенчивости отталкиваются от «клинических» или «патологических» случаев ее проявления. Иными словами, эти теории основываются на историях болезни тех пациентов, для кого застенчивость является серьезным отклонением. В некоторых наблюдаемых случаях застенчивость была столь сильна, что пациенты просто не решались выйти за порог своего дома. Для некоторых пациентов застенчивость, вероятно, и в самом деле является симптомом глубинных психических нарушений, дымовой завесой, за которой скрывается психопатология. Вне всяких сомнений, таким людям необходима квалифицированная помощь. Мы еще вернемся к более детальному обсуждению этой проблемы во второй части нашей книги.
Тем не менее психоанализ может помочь нам разобраться в некоторых иррациональных аспектах психологии ситуативно застенчивых людей. Речь в первую очередь идет о связи застенчивости со стремлением к власти, превосходству над другими людьми, сексуальному удовлетворению, а также с проявлением враждебности. Психоанализ помогает нам проникнуть за кулисы вымышленного мира некоторых застенчивых людей.
Актер Майкл Йорк так описывает движущую силу своей жизни:
Я был застенчив и в то же время ужасно честолюбив. Помню, как в детском саду ставили «Красную Шапочку». Мне досталась должность работника сцены. Я стоял за кулисами и смотрел на мальчишку, который играл волка. Я так завидовал ему, что почти его ненавидел. И знаете, что из этого вышло? Он заболел – и роль досталась мне7.
Молодой мужчина 26 лет, представитель среднего класса, отмечает, что по мере избавления от застенчивости начали проявляться его внутренние страхи и чувство враждебности:
Чем больше я учился уважению к себе, тем больше я терял его по отношению к другим. Страх перед людьми сменился мнением, что большинство из них просто бестолковые. У меня есть несколько друзей, главным образом это мои бывшие одноклассники, но я утратил интерес к общению с ними и перестал разделять их ценности. Они стараются работать только там, где больше платят, а на досуге болтаются по барам в надежде с кем-нибудь познакомиться. Вся их жизнь – «кайф, секс и дешевые развлечения».
Другая молодая женщина, посещавшая мои семинары по застенчивости, признается:
Ванная комната была для меня островком фантазий. Я сидела там, глядя в зеркало и переживая тысячу разных ролей. Я могла заниматься этим часами. Я понимала, что это нехорошо и что во мне, вероятно, говорит, мое тщеславие (я бы могла даже сказать, что я в нем купалась), – и это меня беспокоило. Моя идея заключалась в том, чтобы притвориться, будто за зеркалом есть скрытая камера и что Джимми (мальчик, который мне нравился) мог наблюдать за мной, когда ему захочется. Конечно, он не подглядывал за мной, но всегда существовала вероятность того, что так могло быть. Я спрашивала себя, что бы я чувствовала, если бы он смотрел – понравилось бы ему то, что он видел, – так, что даже если бы я не смогла оторвать себя от этого зеркала, я могла бы изменить свое поведение ради него. Теперь я не чувствую себя такой виноватой, когда занимаюсь чем-то подобным, и время от времени все еще сбегаю в этот уединенный мир, когда я дома.
Эгоцентрическая природа застенчивости также прослеживается в рассказе одной женщины, с которой я работал. Сама она стремилась всячески избежать внимания, которое в то же время постоянно желала к себе привлечь:
Я всегда крайне нерешительна, когда прихожу на танцы. Однако стоит мне только преодолеть свою скованность и начать двигаться, как я чувствую себя великолепно. Сначала я ощущаю себя зажатой и неуклюжей и думаю, что могу стать объектом насмешливых взглядов, тем не менее, когда я танцую, мне кажется, что я делаю это лучше всех и достойна восхищения. Мой психиатр сказал, что это, скорее, продиктовано не чувством неполноценности по отношению к другим, а стремлением превзойти всех остальных.
Социальное программирование
Недавно заведующий медицинским кабинетом одного крупного университета рассказал мне о том, что ежегодно около пятисот студентов (а это 5 % от общего числа обучающихся) обращаются за помощью в связи со своей особой проблемой – они чувствуют себя одинокими. Каждый студент получает индивидуальную психотерапевтическую помощь исходя из того, что, по мнению психотерапевта, стоит за этим ощущением одиночества. По словам заведующего, традиционный фрейдовский психоанализ едва ли мог помочь хотя бы в одном из этих случаев. Сталкиваться, как правило, приходится с вполне осознанными[19] житейскими проблемами, с которыми Я приходится справляться на повседневной основе.
– Но предположим, что все пятьсот студентов явились бы к вам в один день, – начал я. – Каков тогда был бы диагноз и какие методы лечения предложил бы психотерапевт?
– Мы пригласили бы декана или директора общежития и спросили бы у них, что такого там произошло, что могло вызвать такую массовую реакцию, – ответил заведующий.
– А когда они приходят к вам поодиночке, вы спрашиваете их только о том, что происходит лично с ними, а не где-то там?
– В целом, да.
Из этого диалога становится понятно, что корни застенчивости следует искать также в окружении социального Я. Ошибка моего собеседника сродни той, которую допускают психиатры, психологи, врачи, психотерапевты, криминалисты – все те, кто анализирует, расследует, лечит и судит человека, недооценивая силу обстоятельств. Ниже мы рассмотрим вопрос о влиянии некоторых внешних сил, не подвластных человеку.
Мобильность и одиночество
В своей книги «Нация незнакомцев» Вэнс Паккард утверждает, что географическая мобильность стала типичной особенностью американской семьи. «Средний американец примерно четырнадцать раз в жизни меняет место жительства, – пишет Паккард. – Каждый год примерно сорок миллионов американцев переезжают на новое место». Более половины из тридцати двух миллионов человек, проживавших в сельской местности в 1940 году, переехали в течение последующих двух десятилетий. Студенческие городки, города, образовавшиеся вокруг предприятий, летчики, стюардессы, вахтовики – все это примеры тех людей, для кого переезд является естественным перманентным состоянием.
По мнению Паккарда, следствием этого стал «значительный рост числа граждан, утративших ощущения общности, идентичности и преемственности. И как результат – потеря ощущения благополучия как отдельными людьми, так и обществом в целом»8. А как же наши дети? Что переживают миллионы несовершеннолетних, вынужденных срываться с места вслед за своими родителями, когда никто даже не спрашивает их согласия на это? Какую эмоциональную цену они платят за оборвавшуюся дружбу, смену школ и столкновение с неизвестностью? И кто заменит бабушку, от которой пришлось уехать?
Та самая прячущаяся ото всех школьница, чей рассказ открыл собой первую главу, является одной из жертв этой самой мобильности.
…По мере того как я росла, все становилось только хуже. Каждый год мне приходилось идти в новую школу. Наша семья была бедной, и по мне это было видно, так что большинство ребят игнорировали меня, пока им от меня чего-то не требовалось. Они использовали меня – а потом мне приходилось ждать, когда я понадоблюсь им снова. Я чувствовала себя такой же ненужной, как футбольный мяч в самый разгар баскетбольного матча. Я закрылась в своей скорлупе, и с каждым новым переходом в другую школу щелочка в ней становилась все уже, пока не захлопнулась намертво.
Драматические последствия географической мобильности были изучены в исследовании Роберта Зиллера, проводившего сравнительный анализ трех групп восьмиклассников из штата Делавэр. Группа с наибольшей мобильностью включала в себя 83 ребенка, чьи родители служили в ВВС США и кто успел за свою короткую жизнь сменить место жительства семь раз. Другая группа состояла из шестидесяти детей, чьи родители не имели никакого отношения к военной службе, но тем не менее успели переехать три или более раза. В третью группу вошли 76 школьников, которые всю свою жизнь прожили на одном месте.
Каждый ребенок был обследован с помощью различных тестов, выявлявших их связи с другими детьми и взрослыми, ощущение социальной изоляции, а также их самооценку. Как вы, наверное, догадались, дети военнослужащих, пережившие большее количество переездов, оказались наиболее социально изолированными. Во всем, что происходило в их жизни, главной точкой отсчета выступало их собственное Я. Подобная сосредоточенность на себе объяснима: она является реакцией на постоянно меняющуюся среду, которая формирует в ребенке чувство отчужденности. Эти дети обычно говорили о себе как о «не похожих на других», «необычных», «странных» и «одиноких». Они были склонны идентифицировать себя скорее со взрослыми, нежели со своими сверстниками.
Чувство одиночества – испытывает ли его ребенок, взрослый или престарелый человек – становится все более распространенным, учитывая, что все большее количество людей сегодня живут одни или в малочисленных семьях. Американцы сегодня все позже обзаводятся семьей, имеют меньше детей, чаще разводятся и уезжают как можно дальше от родного «гнезда».
Сегодня под одной крышей в среднем проживает не более трех человек. Американское общество с космической скоростью превращается не просто в нацию незнакомцев, а в нацию одиноких незнакомцев.
Человек, оказавшийся в подобных обстоятельствах, может стать застенчивым хотя бы потому, что дотянуться до другого человека ему крайне затруднительно. Все реже можно встретить теплые, доверительные и бескорыстные отношения в семье и между соседями. У человека практически не осталось возможности завести непринужденную беседу, почувствовать отклик собеседника, сделать или получить комплимент.
Пожалуй, самую грустную картину я наблюдал как-то субботним вечером в крупном торговом центре. Вокруг фонтана, пока родители делали покупки, собралась группа детей, сидевших друг от друга поодаль, каждый со своим куском пиццы или бутербродом. По их лицам можно было прочесть, насколько им скучно. Они просто сидели и ждали, пока родители заберут их обратно, домой, в их замкнутый мирок, где никто не знает даже, как зовут соседа.
В городах страх перед преступностью превращает жителей в добровольных затворников. Любой дом становится тюрьмой, когда его начинают завешивать металлическими ставнями, тройными замками и засовами. Некоторые женщины даже не выходят с работы, пока за ними не заедет муж. Для одиноких стариков городская жизнь выглядит все более и более опасной.
Есть и менее явные факторы, которые подкрепляют возникновение застенчивости. Небольшие семейные магазинчики уже не могут выстоять против огромных сетевых брендов – и нам приходится платить за это невидимую плату. Вам уже нигде не попадется на глаза табличка: «Отпускаем в долг». И вы не просто не чувствуете доверия к вам, вы теряете свою индивидуальность, если не можете предъявить как минимум три различных документа, чтобы подтвердить свою личность. Дружеская беседа с продавцом или аптекарем – это удел прошлого. Это и есть наша жертва «прогрессу» – отказ от последней возможности понять, что мы значим для людей и что они значат для нас.
Я провел свое детство в Бронксе, и в те времена мало у кого был телефон. Кондитерская лавочка в нашем квартале служила телефонным центром. Когда мой дядя Норман хотел поговорить со своей подругой Сильвией, он сначала звонил в кондитерскую Чарли. И тогда Чарли подзывал кого-нибудь из мальчишек и предлагал за пару центов сбегать к Сильвии и передать ей сообщение. Довольная Сильвия, конечно же, награждала гонца монеткой, на которую он тут же покупал конфеты или стакан зельтерской (в кондитерской Чарли, разумеется). Цепочка социального общения замыкалась. Чтобы наладить контакт между двумя людьми, нужно было объединить усилия по крайней мере двух посредников. Конечно, этот процесс был медленным и неэффективным по сравнению с тем, насколько легко сегодня Норм может позвонить Сил – если только он помнит номер телефона и не нуждается в услугах справочной службы.
Сегодня многое из этого утеряно. Нет надобности полагаться на помощь других или просить об услуге. Сильвии больше не нужны посыльные, Норману незачем звонить Чарли в кондитерскую. Да это и невозможно: той кондитерской давно нет, а нынешние мальчишки сидят с потухшими глазами у фонтана в супермаркете – каждый со своим бутербродом.
Синдром «быть первым»
Американская система ценностей с акцентом на конкуренцию и личные достижения также вносит свою лепту в распространение застенчивости. В нашей культуре, как отмечает доктор Джеймс Добсон, где красота определяет значимость человека, а ум воспринимается как серебряная монета, застенчивость может стать тяжелейшим грузом на плечах. Вот что вспоминает одна 84-летняя женщина, уже прабабушка, об истоках своей застенчивости:
Думаю, мне не хватало уверенности в себе отчасти потому, что у меня были две очаровательные сестры. У одной – она на полтора года старше меня – были прекрасные карие глаза. Другая – младше на три года – была синеглазой, с золотыми волосами и прекрасной фигурой. У меня глаза были серые. Я чувствовала себя гадким утенком меж двух лебедей. А еще они никогда не были застенчивыми.
То, что многие из нас не достигают своего идеала, есть скорее недостаток самого идеала, нежели отражение нашей неспособности и никчемности. Когда вы поймете, что добились в жизни успеха? Достаточно ли для этого иметь «среднюю» внешность, ум, рост, вес, доход? Конечно, лучше быть выше среднего. А лучше всего – быть наилучшим! Бизнес, образование, спорт – всюду необходимо быть первым.
Мать известного бейсболиста Нолана Райана из команды «Калифорнийские ангелы» после одного из самых лучших матчей заявила журналистам, что она не слишком довольна сыном. В конечном итоге игра была «не блестящей» (то есть все допускали ошибки). Но если под успехом подразумевается превосходство одного над всеми, то удел остальных – это «неудача»?
Национальная страсть к личному успеху ставит человека в ситуацию соревнования со всеми и каждым. Наше общество стремится обогатиться за счет достижений тех немногих, кто преуспел, и готово списать на убытки поражения неудачников.
То значение, которое общество придает доказательству личной значимости, материальному успеху, социальному статусу, весомым достижениям, безусловно, не остается незамеченным детьми. Чтобы быть любимыми, желанными и ценными, они должны постоянно демонстрировать собственные достижения.
Признание значимости человека зависит от того, чего он добился, а не от того, что он представляет собой как личность. Когда наши отношения с другими носят сугубо потребительский характер, вполне естественно переживать о том, можем ли мы предложить кому-то другому что-то значимое и ценное, или что нас могут просто списать со счетов, как только мы перестанем быть нужны.
Атрибуции[20] и ярлыки
До сих пор мы говорили о застенчивости как о чем-то вроде зубной боли. Мы описывали ее как неприятное переживание, вызванное нарушениями в генах, в сознании, в нашем теле, в обществе. Но что, если посмотреть на это с другой стороны, что, если ярлык застенчивости на нас навешивают еще до того, как она возникает? В пользу такого мнения говорит рассказ одной 57-летней женщины:
Я считаю себя застенчивой. Но я так не думала никогда, пока в седьмом классе учительница не назвала меня слишком «тихой». С того момента я начала думать, что мои навыки общения ниже среднего. У меня развился страх быть отвергнутой.
Мы постоянно навешиваем ярлыки на других людей, на наши собственные чувства и на самих себя. Эти ярлыки – удобное упрощение различных жизненных переживаний: «Он непреклонный», «Она ветреная», «Они жутко занудные», «Мы честные», «Я плохой человек». Проблема в том, что подобные ярлыки зачастую определяются системой ценностей того, кто их навешивает, а не объективной информацией. Получить ярлык «коммуниста» из уст американского сенатора Джозефа Маккарти в 1950-х годах означало быть обвиненным в пособничестве злым силам советского тоталитаризма. В Москве чем-то равнозначным являлось оскорбление «проклятый капиталист».
Важно понимать, что ярлык может не опираться на конкретную информацию, а являться лишь отражением чьих-то предубеждений. Более того, информация может быть пропущена через фильтры субъективного отношения.
«Психическое расстройство» – это ярлык, детально и исчерпывающе описанный в учебниках по психиатрии. Но что такое психическое расстройство? Человек может быть признан психически нездоровым, если кто-то другой, обладающий большей властью или авторитетом, сочтет его таковым. Нет ни анализа крови, ни рентгена, ни каких-либо других объективных данных, которые не опирались бы на субъективные суждения человека, ставящего диагноз10[21].
Чтобы проиллюстрировать эту точку зрения, мой коллега Дэвид Розенхан[22] добровольно ложился в психиатрические клиники в разных концах страны11. То же самое делали некоторые из его студентов, каждый из которых приходил на прием к психиатру и жаловался на таинственные шумы и голоса в голове. И ничего больше. Этого было достаточно, чтобы оказаться запертым в палате. После этого каждый из мнимых больных начинал вести себя совершенно нормально. При помощи этого исследования студенты хотели понять, как быстро врачи убедятся в их «нормальности» и выпишут из больницы. Оказалось, что никогда: ни в одном из случаев ярлык «психоз» не был заменен на «нормальный человек». Чтобы участники эксперимента смогли выбраться на волю, им пришлось прибегать к помощи друзей, жен и даже адвокатов.
Силу ярлыков демонстрируют и другие исследования. Как правило, негативное отношение к человеку усиливается, когда людям, с которыми он общается, говорят, что он когда-то лежал в психиатрической клинике или в данный момент является безработным. Если студентам из экспериментальной группы говорили, что один из присутствующих участников является немного «странным», то они начинали игнорировать его, говорить с ним более громким голосом или общаться в замедленном темпе, как обычно говорят с детьми, даже несмотря на то, что они были с ним одного возраста12.
Таким образом, существует вероятность, что человек может согласиться с навешенным на него ярлыком, который абсолютно ничем не подтвержден. И этот ярлык приклеивается к нему, – независимо от того, что человек представляет собой в действительности.
Что еще хуже, мы проявляем поразительную склонность навешивать на себя ярлыки самостоятельно, не удостоверившись в их обоснованности и справедливости. Вот типичный пример. Допустим, я замечаю, что потею, когда читаю лекции. Из этого я делаю вывод, что я нервничаю. Если это происходит довольно часто, то я прихожу к умозаключению, что я «нервный человек». Как только появляется ярлык, то следом возникает логичный вопрос: «Почему я нервный?» Тогда я начинаю искать подходящее объяснение. При этом я замечаю, что некоторые студенты уходят с лекции, а кто-то просто невнимательно слушает. Это заставляет меня нервничать еще больше. Возможно, я вообще ни на что не годный преподаватель, потому что студентам не интересны мои занятия. Я нервничаю, потому что я скучный, а я хочу быть хорошим педагогом. Я чувствую себя некомпетентным. Может, мне вообще стоит все бросить и открыть бакалейную лавку? И тут один из студентов говорит: «Как же жарко! Я уже весь расплавился и просто не могу сидеть дальше на лекции». И я тут же перестаю быть «нервным» или «скучным». Но представьте, если в аудитории собрались только застенчивые студенты и никто не отважится сказать такое вслух. Чем закончится эта лекция и мои размышления о самом себе?
Очень часто для навешивания ярлыка достаточно пустякового основания. И как только он пристает к нам, наши поиски объяснений становятся предвзятыми[23]: мы принимаем любые доводы в пользу ярлыка и отвергаем все, что с ним не согласуется.
Ярлык может быть ошибочным изначально, как в приведенном мною примере. И в этом случае он отвлекает внимание от реальных причин и приводит к искаженному представлению о собственных недостатках и связанному с этим чувству неполноценности. Заблуждения такого рода особенно типичны, когда речь заходит о ярлыке «застенчивости», как говорит об этом актриса Энджи Дикинсон:
Мне кажется, что люди, которые считают вас «застенчивыми», не понимают, что этим словом они пытаются определить нечто иное в вас – вашу чувствительность. Они не замечают или не хотят ее понять. Я поверила в себя, когда научилась игнорировать людей, нечувствительных ко мне. Восприимчивость, а она присуща не только детям, но и многим взрослым, является прекрасным качеством. И я не позволяю себе идти на поводу у тех, кто подменяет понятие чувствительности, называя ее застенчивостью.
Если мы вспомним о различии в реакциях людей на застенчивость, о чем уже говорилось в главе 2, то мы увидим механизм навешивания ярлыков в действии. Те, кто считал себя застенчивыми, и те, кто отвечал на этот вопрос отрицательно, ничем не отличались друг от друга с точки зрения того, какие люди и ситуации заставляли их испытывать чувство застенчивости. Не было различий и в их реакциях на подобные эмоции. Но почему, если причины и следствия для тех и других сопоставимы, лишь некоторые уверены в том, что им свойственна застенчивость?
Объективно их эмоциональный опыт схож, разница заключается лишь в том, принимает человек или нет ярлык «застенчивого».
Застенчивые люди винят во всем себя, незастенчивые – обстоятельства.
«Кому вообще нравится выступать на людях или встречаться с незнакомцами?» – презрительно фыркнет незастенчивый человек, объясняя свой внутренний дискомфорт в подобной ситуации. «Я так реагирую, потому что я застенчив. Все дело во мне, и с этим ничего не поделаешь», – скажет человек застенчивый. Первый связывает свои реакции с внешними факторами, которые могут логичным образом провоцировать его внутреннее состояние, схожее по своей природе с застенчивостью: «Это же нормально, правда?» При этом он способен изменить ситуацию, например, отключить кондиционер, если в помещении стало слишком жарко.