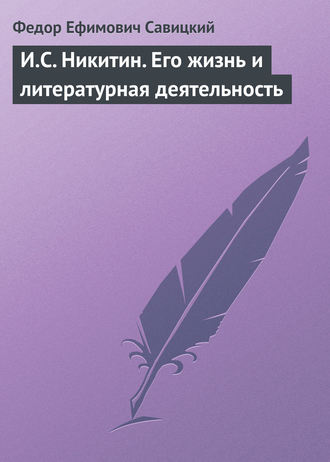
Федор Ефимович Савицкий
И.С. Никитин. Его жизнь и литературная деятельность
Кроме этих лиц, живое участие в судьбе Никитина приняли А. П. Нордштейн и М. Ф. Де-Пуле (в то время преподаватель воронежского корпуса), сделавшийся другом поэта, а после его смерти – его биографом.
Второе ввел Никитина в свой кружок. Личность поэта-мещанина, затерявшегося на постоялом дворе, владеющего литературным языком, пишущего стихи, живя среди извозчиков, конечно, возбудила общий интерес. Прежде всего, в нем хотели открыть новый талант-самородок, народного поэта вроде Кольцова, память о котором была еще так свежа в Воронеже. Приписать себе честь такого открытия было, конечно, очень заманчиво, и некоторые из новых друзей Никитина, кажется, слишком поторопились это сделать; благодаря им слух о Никитине как о новом народном поэте быстро распространился за пределами Воронежа. Впоследствии это только повредило Никитину: на него возложили такие ожидания, ему предъявляли такие требования, которых он выполнить не мог, потому что они совершенно не соответствовали его дарованию. “Знаете ли, – писал Никитину А. Н. Майков (хотя и не знавший его лично), – что я завидую вам? Завидую тому, что вас воспитала и вскормила сермяжная Русь, следовательно, вы должны знать ее лучше меня”. Нет сомнения, что сын мещанина, содержатель постоялого двора, Никитин хорошо знал эту “сермяжную Русь”, но А. Н. Майков ошибался, думая, что она воспитала и вскормила его, – конечно, если говорить о воспитании не физическом, а духовном. Такой же “самобытности и народности” требовал от Никитина и один из лучших тогдашних критиков, Ир. И. Введенский, опять-таки не знавший Никитина лично, но убеждавший его письменно не менять свой постоялый двор на “искусственный кабинет петербургского или московского литератора”. Вся ошибка была в том, что Никитин уже в первых своих произведениях является не самобытным народным поэтом, каким его считали, а литератором, хотя еще и без определенной физиономии.
Впрочем, и помимо литературной стороны в самой личности Никитина было многое, что возбуждало к нему интерес в людях того кружка, в который он так робко вступил. В этом приниженном, забитом нуждою дворнике чувствовалась богато одаренная натура, сохранившаяся наперекор обстоятельствам. Как мы уже знаем, первым, кто оценил это и принял живое участие в судьбе Никитина, был Н. И. Второв. “С первой поры моего знакомства с Никитиным, – говорит он, – я привязался к нему всей душой. Я полюбил в нем просто человека, человека с благороднейшей душой, с тонким, изящным чувством, какого редко встретишь не только в той среде, в которой он воспитывался, но даже и в так называемой благовоспитанной”. С этих пор между ними установились близкие, дружеские отношения, оказавшие благотворное влияние на Никитина. Второв ввел его в кружок просвещенных людей, помогал его развитию, был опытным руководителем при первых шагах его на литературном поприще. Без такого содействия судьба Никитина была бы, вероятно, иная. Много талантов погибло у нас без следа, не успев расцвести, будучи не в силах бороться с обстоятельствами, с равнодушием и холодностью.
Никитин сначала дичился и неохотно заводил знакомства. Даже Второв должен был по нескольку раз повторять приглашение, чтобы видеть его у себя. Но мало-помалу теплые симпатии новых знакомых отогрели поэта. (Кроме Второва и Придорогина Никитин ближе всего сошелся с А. П. Нордштейном и несколько позже с М. Ф. Де-Пуле). В это время он переживал самый счастливый момент своей жизни. После нескольких лет тяжелых испытаний Никитин узнал наконец высшие радости, доступные человеку и писателю: его признали поэтом, его скромные стихи, которые он прежде, как преступление, тщательно скрывал, теперь читались всеми, производили впечатление, его имя сделалось известным далеко за пределами Воронежа. Не только печатные, но даже рукописные стихотворения Никитина быстро распространялись по городу, о нем заговорили в разных слоях общества, с ним наперерыв искали знакомства, даже люди высокопоставленные спешили оказать ему внимание. Между прочим, одной из ревностнейших почитательниц Никитина сделалась жена тогдашнего воронежского губернатора, княгиня Е. Г. Долгорукая, которой в особенности нравились его стихотворения религиозного содержания, например “Моление о чаше”. Скоро имя Никитина проникло и в столичную печать. Первые известия о нем вместе с несколькими стихотворениями были напечатаны в “Москвитянине” графом Д. Н. Толстым, узнавшим о Никитине от Второва. Вместе с этим граф Толстой сделал предложение Никитину издать на свой счет собрание его стихотворений. Никитин по-прежнему оставался содержателем постоялого двора, но нравственное состояние его совершенно изменилось: он теперь вышел из узкого круга дворнической жизни, сделался членом образованного общества, которое так приветливо встретило его. Вместе с этим значительно изменилось и его материальное положение: гонорары, которые Никитин начал получать за свои стихотворения, в особенности же порядочная сумма, вырученная от продажи книжки, дали ему возможность устроить свое положение к лучшему; он освободился от грязной возни с извозчиками, нанял приказчика, завел даже лошадь. Те, которые познакомились в это время с Никитиным, ожидая найти в нем простого мещанина в чуйке, подстриженного в кружок, были очень разочарованы: и по платью, и по наружности он выглядел образованным человеком, литератором. Де-Пуле говорит, что некоторые из знакомых, не шутя, находили в Никитине какое-то сходство с Шиллером… Вращаясь среди образованных людей, Никитин не мог не сознавать бедности своего образования, и, чтобы пополнить этот недостаток, он начинает учиться вновь, много читает, занимается французским языком. На этом языке впоследствии он мог уже кое-как объясняться, а в письмах любил щеголять французскими фразами. Из всего этого можно видеть, как мало он соответствовал тому представлению о “поэте-дворнике”, “поэте-самородке”, которое некоторые составляли о нем за глаза.
Благодаря популярности своего имени и друзьям Никитин в это время имел уже довольно обширный круг знакомых как в Воронеже, так и за городом. В частности, он был очень радушно принят в помещичьем семействе Плотниковых. Здесь, среди приволья природы, в обществе дам и молодых девушек, которых интересовал этот нелюдимый и грубоватый, но оригинальный “поэт-дворник”, Никитин оживал душой. Чувства молодости, уже протекшей, воскресали в нем в мирной обстановке этого дома, в кругу дружески принявшей его семьи, где он находил “минутное счастье под кровлей чужой”, как он говорит в одном из стихотворений, относящихся к его пребыванию в доме Плотниковых. Здесь у Никитина, кажется, были первые встречи с женщинами – до сих пор он совершенно не знал женского общества, – от которых в его душе остались мимолетные, но светлые воспоминания; на это указывают некоторые его стихотворения (“Чуть сошлись мы, друг друга узнали…”, “День и ночь с тобою жду встречи…”). Но вообще счастье любви никогда не согрело “одинокую и бесприютную” жизнь Никитина. Кажется, самые мечты и возможность этого счастья обращались для него в источник страданий. Мы не знаем, к кому относится одно стихотворение, написанное в лучшую пору жизни Никитина, в пору успеха и надежд; в нем поэт с суровой беспощадностью отрекается от счастья с любимой женщиной, рисуя ей мрачную перспективу собственной жизни, которую ей пришлось бы разделить с ним. “Не повторяй холодной укоризны”, – говорит он:
Не суждено тебе меня любить…
Беспечный мир твоей невинной жизни
Я не хочу безжалостно сгубить.
Тебе ль, с младенчества не знавшей огорчений,
Со мною об руку идти одним путем,
Глядеть на зло, на грязь и гаснуть за трудом,
И плакать, может быть, под бременем лишений,
Страдать не день, не два – всю жизнь свою страдать!
Так уж сложилась эта суровая жизнь, что в ней не было места для радостей. Одной из причин того мрачного настроения, которое преобладало в Никитине, была серьезная хроническая болезнь, которою он начал страдать с тех пор, как, хвалясь своей силой, поднял какую-то тяжесть, причем у него как будто порвалось что-то внутри. Уже в то время, когда Никитин сделался известным поэтом, эта болезнь медленно подтачивала его сильный по природе организм, по временам причиняя невыносимые страдания. Этим многое объясняется в его характере, этим объясняется и тон его произведений, ноющий, болезненный, мрачный.
Во всяком случае эти четыре года (1853–1857) были лучшей порой в жизни Никитина. Физические силы еще не были окончательно убиты болезнью, бодрость духа поддерживалась сознанием своего успеха и дружескими симпатиями таких людей, как Второв и члены его кружка. За это время талант Никитина уже совершенно определился и окреп. Если первые его стихотворения, доставившие ему известность (“Русь”, “Война за веру” и пр.), ничего не представляли нового и оригинального, но были только более или менее удачными вариациями на темы наших известных поэтов, то теперь Никитин переходит в ту область, которая ему была так близка и знакома и где он нашел еще непочатый источник для вдохновения; эта область – жизнь простого народа и низших городских классов, которую Никитин знал с детства. По всей вероятности, эта сфера была указана Никитину его друзьями, которые вообще руководили его развитием. В то время когда затихли громы Крымской войны и в воздухе уже носились веяния новых реформ императора Александра II, слова “народность”, “народ” приобрели особое значение и сосредоточивали на себе общий интерес. Неудивительно поэтому, что второвский кружок, так живо принимавший к сердцу общественные интересы, указывал Никитину на почти неизвестную тогда область народной жизни, в которой могло выразиться его истинное дарование. В этот период (1853–1857 годы) Никитиным были написаны его лучшие произведения, например “Утро”, “Жена ямщика”, “Бурлак”, “Рассыпались звезды”. В них, кроме прекрасных картин природы, описания народной жизни сделаны с такой правдивостью и проникнуты таким глубоким и искренним чувством сострадания к ее невзгодам, что производят сильное впечатление и свидетельствуют о недюжинном таланте Никитина. В это же время им было начато и обдумывалось самое большое и серьезное произведение, поэма “Кулак”.
В 1856 году графом Д. Н. Толстым и А. А. Половцовым было выпущено в Петербурге первое издание стихотворений Никитина. Это издание, в которое вошли только стихотворения, написанные до 1854 года, вызвало в печати разнообразные отзывы. В “Русском вестнике” проф. Кудрявцевым была сделана неблагоприятная рецензия, опечалившая Никитина, но еще больше огорчений доставили ему похвалы его книжке Ф. Булгарина в “Северной почте”, в которых заключались ехидные намеки насчет “исправлений”, сделанных в его произведениях графом Толстым. Все это, как водится, волновало и тревожило автора. Но за эти треволнения Никитин был щедро вознагражден вниманием к нему высочайших особ, которым граф Д. Н. Толстой поднес экземпляр его стихотворений. Обе императрицы, царствующая и вдовствующая, и покойный цесаревич Николай Александрович удостоили Никитина драгоценными подарками, которые он принял с восторгом. Это еще больше возвысило его в глазах местного общества. Что касается родных Никитина, то они, видя такой внезапный переворот в его судьбе, пришли в смущение: они боялись, что его как диковинку “возьмут” в Петербург!


