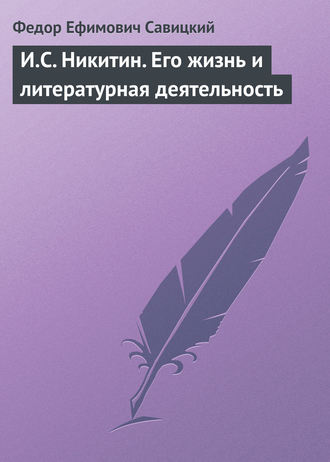
Федор Ефимович Савицкий
И.С. Никитин. Его жизнь и литературная деятельность
“Помню я, был у нас учитель во 2-м классе училища, Алексей Степанович, коренастый, с черными нахмуренными бровями. Вызовет он, бывало, тебя на средину класса и крикнет: “Читай!” А из глаз так и сверкают молнии. Взглянешь на него украдкой и начнешь изменяться в лице, в голове пойдет путаница, и все вокруг тебя заходит: и ученики, и учитель, и стены… и понесешь такую дичь, что после самому станет стыдно. “Не знаешь, негодяй! – зарычит учитель. – К порогу!” И начнется, бывало, жаркая баня”.
Это было альфой и омегой всей тогдашней педагогической мудрости, унаследованной, кажется, еще от Средних веков. Только в сравнительно недавнее время, в начале семидесятых годов, реформа коснулась и бурсы, разрушила всю старую педагогическую систему, внесла в нее новый дух и нравы. В 1841 году, по окончании училища, Никитин был переведен в духовную семинарию. Здесь для молодого человека начался новый период жизни, непродолжительный, так как Никитин прошел только два класса, но сильно повлиявший на строй его ума и дальнейшее развитие. Описание семинарской жизни сделано впоследствии самим Никитиным в его “Дневнике семинариста”. Все эти очерки проникнуты горечью и недовольством, которые автор вынес из семинарии. И действительно, серенькая, запертая в четырех стенах, с бедной обстановкой и полумонастырской дисциплиной, тогдашняя жизнь в семинарии не могла оставить по себе доброй памяти. Само образование носило сухой и безжизненный характер. Лекции обыкновенно читались профессорами (как тогда называли преподавателей семинарии) по старым, давно составленным тетрадкам, написанным темным и витиеватым языком. Некоторые профессора, чтобы не трудиться над составлением записок, не мудрствуя лукаво, читали по старым академическим тетрадкам, по которым учились сами. Уроки, правда, не оживлялись грубыми и возмутительными сценами вроде вышеприведенной, но зато апатия и скука царили здесь. Вот, например, сцена русской истории из “Дневника семинариста”:
“Яков Иванович читает по старой почтенного вида тетрадке, которая каждый раз закладывается продолговатой, нарочно для этого вырезанной бумажкой; место же, где ударом звонка было прервано чтение, отмечается слегка карандашом, который вытирается потом резиною… Начинается тихое, мерное чтение. Читает он полчаса, читает час, порой протирает очки – вероятно, глаза несчастного подергиваются туманом – и опять без умолку читает. И нет ему никакого дела до окружающей его жизни, точно так же, как никому из окружающих нет до него ни малейшей нужды. Ученики занимаются тем, что им более нравится или что они считают для себя более полезным. Некоторые ведут разговор о взаимных похождениях, некоторые переписывают лекции по главному предмету, а некоторые сидят за романами. Если чей-нибудь неосторожный голос или смех прервет мерное чтение почтенного наставника, он поднимет свои вооруженные глаза на молодежь и громко скажет: “Пожалуйста, не мешайте мне читать!”
Несмотря на солидность наук, входивших в круг семинарского образования, такое безжизненное преподавание не могло расширить умственные интересы учеников, вызвать в них пытливость и осмысленное отношение к науке. Зубристика преобладала. Таким же сухим и схоластическим характером отличались и темы сочинений, которые задавались семинаристам. Например: “Знание и ведение суть ли тождественны?” Или: “Каким образом ум как источник идей может служить средством к приобретению познаний?” Над такими сочинениями молодые головы могли изощряться только в риторических и диалектических тонкостях, но живой и плодотворной пищи для ума тут не было.
Но как ни бесцветна в то время была жизнь в воронежской семинарии, у нее, однако, были и свои хорошие предания. Лет за десять до поступления Никитина среди семинаристов выделялась прекрасная личность Серебрянского, который был другом Кольцова и несомненно имел большое влияние на его талант. Умный, даровитый, с поэтической душой, Серебрянский был кумиром для молодежи; вокруг него собирался оживленный семинарский кружок, в котором велись горячие споры, говорились речи, читались стихи, обсуждались различные вопросы, волновавшие тогдашнее образованное общество. Имя Серебрянского долго пользовалось обаянием в воронежской семинарии, и в то время, когда поступил Никитин, еще ходили по рукам его рукописные стихотворения. Это создавало своего рода литературные традиции. Прежнего кружка, впрочем, не было, потому что не было такого, как Серебрянский, человека, который мог бы оживлять его и быть центром, но все-таки между семинаристами было сильное увлечение литературой. Интерес к ней еще более подогревался той популярностью, которою окружено было в Воронеже имя Кольцова, в то время только что сошедшего в могилу. С этим именем соединялось имя его друга, Белинского, пламенные статьи которого производили тогда глубокое впечатление. На развитие семинариста Никитина эти статьи имели такое сильное влияние, что его не в состоянии были вытравить даже последующие десять лет жизни среди убийственной обстановки постоялого двора. Можно сказать, что Никитин, как и многие из его современников, воспитался на статьях Белинского; они открыли ему другие, высшие потребности, нежели те, с которыми он был знаком по жизни в кругу своей семьи и в семинарии. Здесь поэтому будет уместно еще раз напомнить о том значении, которое имел для своего времени Белинский.
Вся умственная жизнь тогдашнего русского общества сосредоточивалась на литературе. Несмотря на крайне неблагоприятные условия, в которые была поставлена журналистика и вообще литература сороковых годов, происходило движение, приведшее к решительному перевороту в этой области, к перемене всех старых, отживших взглядов и традиций. Литература, писанная, по выражению Гоголя, “слогом помадных объявлений” и доказывавшая, что мы живем в прекраснейшем из миров, доживала свои последние дни. На смену ей выступала новая, “натуральная” школа, которая шла по пути, указанному Гоголем, и начала изображать действительную жизнь без всяких ложных прикрас. Литература перестает быть каким-то случайным и внешним украшением жизни, напротив – она тесно примыкает к жизни и сливается с ней. Главная заслуга в этом перевороте принадлежит Белинскому. Уже в одной из своих первых статей Белинский ясно и определенно указал, какое место должна занимать литература в отношении к жизни. Она есть плод “свободного вдохновения и дружных усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнью которого они живут и духом которого они дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений” (“Литературные мечтания”). Вместе с тем изменяется и сама задача художественного творчества. Писательство из ремесла, предназначенного для забавы, для развлечения скучающего читателя, обращается в дело общественного служения. Задача писателя – “глаголом жечь сердца людей”, служить лучшим интересам человеческой мысли и нравственному совершенствованию того общества, в котором он живет. По самой природе своей, являясь человеком, глубоко преданным правде, страстно ищущим ее во всем, человеком, для которого “жить и писать, писать и жить” значит одно и то же, Белинский был бичом для всех мнимых талантов, для пошлости и фальшивой напыщенности в литературе, вместе с тем выделяя и горячо приветствуя все, что “было в ней правдой и красотой”, по выражению И. С. Тургенева. То отрицательное отношение к разным темным сторонам нашей тогдашней общественной жизни, к которому, как известно, пришел Белинский в конце своей деятельности, отношение, доставившее ему столько врагов при жизни и даже после смерти, было вызвано тем же страстным стремлением к нравственной правде, которым проникнута была вся деятельность критика, его представлением о человеческом достоинстве и осознанием необходимости просвещения, недостаток которого так сильно чувствовался тогда. Действуя посредством литературы, развенчивая в ней множество фальшивых и вредных понятий, Белинский тем самым способствовал установлению новых не только литературных, но и общественных взглядов. Может быть, некоторые из этих взглядов и требований были не совсем определенны – такие упреки не раз делали литературе сороковых годов, забывая, впрочем, что причиною этого могли быть и “не зависящие” от нее обстоятельства, – но во всяком случае искренний идеализм Белинского был несомненно огромной нравственно-воспитательной силой для целого ряда поколений.
На тогдашнюю молодежь пламенные статьи Белинского производили чрезвычайно сильное впечатление; их читали, штудировали, даже заучивали наизусть, у семинаристов, конечно, не могло образоваться от этого чтения какого-либо цельного и определенного мировоззрения; но, во всяком случае, его влиянию нужно приписать ту любовь к знанию и литературе и те, может быть, смутные, но хорошие стремления, которые так глубоко проникли в душу Никитина еще на семинарской скамье и помогли ему впоследствии выйти на “дорогу новой жизни”. Увлечение литературой, в особенности же стихотворениями Кольцова, заставило Никитина уже в семинарии испытать свои силы на этом поприще. Первое свое стихотворение он показал профессору словесности Чехову, который одобрил этот опыт и советовал продолжать. С этих пор сочинение стихов сделалось любимым занятием Никитина, своего рода потребностью: оно заменяло ему игры и товарищеские беседы. Между товарищами за Никитиным скоро установилась репутация семинарского поэта. Первые опыты Никитина не сохранились, и потому мы не можем судить о них. Но, должно быть, это были только слабые подражания другим поэтам; при совершенной отчужденности от общества и замкнутости в себе содержание их по необходимости должно было ограничиваться картинами природы и внутренним миром.
Никитин в это время был уже юношей лет восемнадцати, цветущим, здоровым и красивым. По характеру он, как и в детстве, оставался сосредоточенным и нелюдимым. Даже в эту лучшую пору жизни, когда сердце так раскрыто для привязанности, Никитин, кажется, не знал ни любви, ни дружбы. “Сложившаяся таким образом жизнь, – справедливо замечает М. Ф. Де-Пуле, – уже имела сама в себе источник будущих страданий: молодой человек развивался насчет одного ума, сердце черствело и замыкалось… Чувствовалось, что по натуре, по душе Никитина прошла когда-то сильная струя холода, оставившая в ней на всю жизнь неизгладимый след; она была постоянно помехой, по которой вспыхивающая в душе его страсть никогда не разгоралась пламенем общего пожара”. Нелюдимость, приниженность и недоверие к людям выработались в Никитине очень рано под влиянием грубого и деспотичного нрава отца. Семинарское воспитание не могло искоренить этих качеств, скорее всего оно же и укрепило их, а те идеи и “возвышенные стремления”, которые семинарист Никитин мог вынести из книг, еще более усиливали в его душе разлад между этими представлениями и грубой прозой мещанско-торгашеской жизни. Рано развившаяся в молодом человеке рефлексия, способность критически смотреть вокруг себя выдвинули его из темной среды, но они же всю жизнь были для Никитина источником глубоких страданий. “Если б вы знали, – писал Никитин в одном письме, – какие сцены окружали меня с детства, какая мелочная, но, тем не менее, страшная драма разыгрывалась перед моими глазами, – драма, где мне доводилось играть роль, возмущавшую меня до глубины души!” Дальнейшие обстоятельства жизни еще более усилили тяжесть положения молодого человека.


