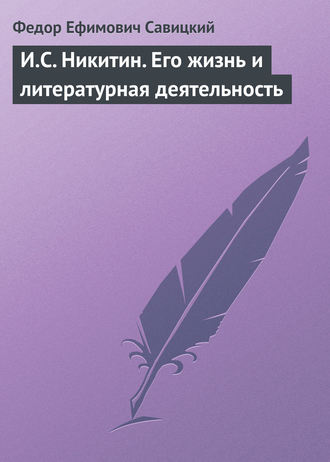
Федор Ефимович Савицкий
И.С. Никитин. Его жизнь и литературная деятельность
Робость, приниженность, неуверенность в себе сквозят в каждой строчке этого письма. Из этого отрывка, который мы привели, можно видеть, что в лице Никитина выступал на литературное поприще не “поэт-самоучка” вроде Кольцова, как вначале смотрели на Никитина, а человек со значительной уже литературной подготовкой, образованный. Такое письмо со стороны мещанина Никитина, содержателя постоялого двора, было, конечно, явлением очень странным, как и все его произведения, в которых ничего “самородного” и “дворнического” не было. А этого именно у него искали, и положение Никитина на первых порах многих вводило в заблуждение. К счастью для Никитина, на этот раз вопрос быть или не быть, остаться навек дворником или выйти на “дорогу новой жизни”, о которой он так долго мечтал, был решен в его пользу. Присланные стихотворения, в особенности же их автор, заинтересовали кружок людей, стоявших во главе воронежской интеллигенции. Это были Н. И. Второв, К. О. Александров-Дольник, В. А. Средин и другие, о которых мы поговорим в следующей главе. Второв захотел сейчас же познакомиться с автором-дворником. И вот к Никитину, с трепетом ожидавшему решения своей судьбы, приходит его знакомый, Рубцов, и зовет его к Второву. “Бледный, худощавый, выглядывавший как-то исподлобья, в длинном сюртуке, – так описывает эту встречу Второв, – Иван Саввич робко следовал за Рубцовым, и когда последний с торжеством объявил, что это тот самый Никитин, с которым я желал познакомиться, он, словно подсудимый, призванный к ответу, стал извиняться, что позволил себе такую дерзость, т. е. написал письмо и пр. Насилу мог я его усадить; но и затем, как только начинал я говорить с ним, он тотчас же вскакивал, и немалых усилий стоило мне уговорить его вести разговор со мною сидя. Из разговора нашего, который скоро обратился к литературе, оказалось, что Иван Саввич много читал, но много также оставалось ему еще неизвестным. Он с радостью принял мое предложение пользоваться моею небольшою библиотекою и на первый же раз запасся “Дэвидом Копперфилдом” Диккенса”. Второв сразу же угадал в робком и приниженном мещанине даровитую натуру, которую нужно было только отогреть. Между ними с этого времени началось знакомство, перешедшее потом в дружеские отношения, которые продолжались до конца жизни Никитина.
Стихотворение “Русь”, а затем и другие: “Война за веру”, “Моление о чаше”, – были напечатаны в “Воронежских губернских ведомостях” и произвели сильное впечатление. О Никитине заговорили как о “поэте-самородке”, его стихотворения переписывались и ходили по рукам, некоторые столичные журналы перепечатали их. Неизвестное до тех пор имя поэта-дворника вдруг сделалось популярным в Воронеже; Никитиным интересовались, многие искали с ним знакомства. Из узкого круга дворнической жизни Никитин попадает в лучшее воронежское общество; им интересуются, ему оказывают внимание даже люди, занимающие высокое положение. Скоро его имя делается известным даже в столицах, куда также дошла весть о появлении в Воронеже нового “народного поэта”.
Несомненно, что уже первые стихотворения Никитина, сделавшиеся известными публике: “Русь”, “Война за веру” и другие, – отличаются от заурядного стихотворства и носят признаки таланта, но, во всяком случае, тот громкий успех и те восторги, которыми они были встречены, следует признать преувеличенными и преждевременными. Талант Никитина развился и нашел себе настоящую дорогу позже, а пока эти первые опыты были, как и всегда бывает, только робким подражанием другим поэтам и в сущности, кроме звучных стихов, ничего замечательного не представляли. Наделавшее столько шума и доставившее Никитину известность стихотворение “Русь” по форме представляет подражание Кольцову, а по содержанию наполнено более или менее общими местами о величии России, ее громадности, материальной силе и т. п. В стихотворении “Война за веру” повторяются некоторые мотивы “Клеветникам России” Пушкина. Успех, выпавший на долю этих произведений, объясняется тем патриотическим возбуждением, в котором находилось в то время, в начале Крымской войны, наше общество, а еще больше – положением автора этих стихотворений: в лице Никитина ожидали найти такой же талант самородок, вышедший из простого народа, каким был Кольцов. Мы уже видели, какую школу прошел Никитин, под каким влиянием ему пришлось развиваться, и понимаем, как далек он был от того простого и непосредственного отношения к жизни, которое так привлекательно в поэзии Кольцова и составляет ее оригинальность и прелесть. Сравнение между Никитиным и Кольцовым, как ни естественно оно было ввиду одинакового происхождения и положения обоих поэтов, было вызвано недоразумением, которое сначала послужило Никитину на пользу, создало ему быстрый успех, но затем обратилось против него: не найдя в Никитине народного поэта в духе Кольцова, некоторые совершенно отказывались признать в нем оригинальный талант и видели только подражателя. Обе точки зрения были одинаково неправильны, как доказала дальнейшая литературная деятельность Никитина. Оценку его произведений мы сделаем ниже, а пока отмечаем только эти обстоятельства для характеристики того положения, которое занял наш поэт-дворник среди воронежского общества.
ГЛАВА II. ПОЭТ-ДВОРНИК И ВОРОНЕЖСКИЙ КРУЖОК
Воронежское общество в начале пятидесятых годов. – Н. И. Второв и его кружок. – И. А. Придорогин. – Влияние кружка на Никитина. – Его популярность в Воронеже. – Знакомства. – Перемена в положении. – Литературная деятельность, – Первое издание стихотворений. – Болезнь Никитина и уныние. – Отъезд Второва. – Издание “Кулака”
В конце сороковых и в начале пятидесятых годов Воронеж выделялся своей интеллигенцией среди наших провинциальных городов. Здесь в это время собралось много питомцев университетов Московского, Петербургского и Харьковского, занимавших различные должности по административной и педагогической части. Все это были по большей части люди молодые, энергичные, проникнутые любовью к науке и литературе и вносившие оживление в умственную жизнь провинциального общества. Приливом интеллигенции Воронеж прежде всего был обязан своей близости к Харьковскому университету, который вообще был в то время главным рассадником просвещения для всего южного края; из его питомцев, уроженцев Воронежской губернии, выделилось немало людей, занявших почетное место в науке и литературе, например Станкевич, Костомаров, Никитенко, Сухомлинов, Афанасьев и др. В конце сороковых годов наплыву интеллигенции в провинцию много способствовало вышедшее в то время запрещение молодым людям, получившим образование в университетах, начинать службу в столицах. Наконец, также немаловажную роль в этом сосредоточении в Воронеже образованных людей играл основанный здесь в 1845 году кадетский корпус, собравший вокруг себя молодые педагогические силы.
Как известно, тридцатые и сороковые годы были у нас временем литературных кружков.
В этих дружеских кружках, в которых сосредоточивались лучшие умственные силы, переживалось все, что только занимало и волновало тогда лучшую часть русского общества: то отвлеченности гегелевской философии, то литература, то вопросы общественной жизни. Известно, какое важное значение имели в истории умственного развития нашего общества такие кружки, как московские Станкевича, Белинского и Грановского или Аксаковых и Киреевских и подобные же им петербургские. Это были главные умственные центры. По примеру их провинциальная интеллигенция также соединялась в кружки, очень часто имевшие какие-либо сношения со столичными; все, что делалось в центрах, было известно, обсуждалось и здесь. Во второй половине пятидесятых годов происходит распадение кружков как в столицах, так и в провинции; но в то время, когда Никитин выступил на литературное поприще, в Воронеже еще существовал такой кружок, соединявший в себе лучшие интеллигентные силы. Во главе его стоял Н. И. Второв, занимавший в то время солидный административный пост в городе. Воспитанник Казанского университета, Второв начал свое служебное поприще в Казани при канцелярии военного губернатора, а затем – библиотекарем университета; в то же время он редактировал местные “Губернские ведомости” и усердно занимался археологией и этнографией края. Затем, после путешествия по Остзейским губерниям, доставившего ему богатый этнографический материал, Второв служил некоторое время в Петербурге, где, между прочим, у него завязались литературные знакомства в кружках князя В. Ф. Одоевского, графа Соллогуба и Даля. В конце сороковых годов Второв перешел на службу в Воронеж.
Вместе с ним туда же перешел на службу его родственник и товарищ по университету К. О. Александров-Дольник. В Воронеже они оба ревностно принялись за изучение этнографии, истории и археологии края, занимались собиранием древних грамот, в результате чего получилось солидное издание “Воронежских актов” XVI и XVII столетий. Эта цель привлекла к ним много интеллигентных сил города. Скоро вокруг Второва и Дольника собрался кружок, в который входили люди разных поколений и профессий: чиновники, педагоги, студенты, купцы – словом, все, кто только хотел внести свою долю участия в изучение края, кто искал живого умственного дела, предпочитая его развлечениям светской жизни. “Все, что было в Воронеже мыслящего, Второв сумел собрать вокруг себя, сумел воодушевить и подвинуть на работу”. Этому много помогало обаяние его симпатичной личности, его благородный и обходительный характер. Кружок собирался в квартире Второва. Здесь происходило сближение с новыми людьми, кипели горячие споры, обсуждались разные вопросы, которые занимали тогда общество. Благодаря столичным знакомствам Второва его кружок находился в постоянных сношениях с московскими и петербургскими кружками, откуда, таким образом, не прекращался приток новых идей.
Одной из интересных личностей этого кружка был И. А. Придорогин. По происхождению сын воронежского купца, воспитанник Московского университета, поклонник Белинского и Грановского, это был один из “идеалистов сороковых годов” или, если угодно, один из тех “лишних людей”, которых так прекрасно изображал И. С. Тургенев (например в “Дворянском гнезде” в лице Михалевича). Вспомните:
Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как младенец душою я стал…
Я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.
В этом целая характеристика таких людей. Непрактичный, как и все идеалисты, до конца жизни не сумевший устроить свои дела, живший в кругу отвлеченностей, Придорогин всегда чем-нибудь увлекался, волновался, протестовал (за один из своих протестов против произвола местной администрации ему, между прочим, пришлось поплатиться арестом на гауптвахте). По образу мыслей он был либералом и отрицателем в духе тогдашней литературы, но, несмотря на злой язык, которого боялись некоторые, в сущности он был человеком с нежной и любящей душой, способным привязываться всем сердцем. Неудивительно, что он один из первых принял самое живое участие в судьбе поэта-дворника. В кружке Второва пылкий и увлекающийся Придорогин как бы противостоял самому Второву с его холодной деловитостью и вносил сюда свой энтузиазм и оживление. “Протестантом и радикалом, – говорит Де-Пуле, – он был страшным (конечно на словах), когда речь заходила о крепостном праве: чего-чего не говорил он тут, каких не сочинял ужасов. До 1857 г. почти ни одна наша беседа не обходилась без его горячих филиппик”.


