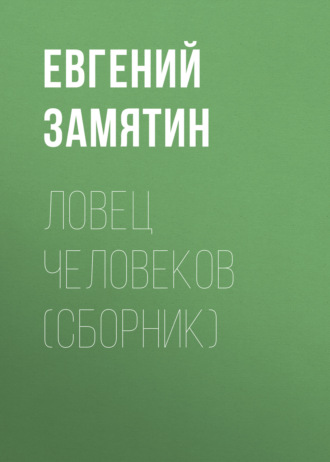
Евгений Замятин
Ловец человеков (сборник)
Хотелось, чтобы смеялась она – серебряным смехом, счастливая и гордая.
Хотелось, чтобы плакала она – чтобы целовать ее волосы, и глаза, и ее слезы – и утешать ее, маленькую и слабую – как ребенка.
Вытянулся весь, закусил губы.
Рвался изнутри нетерпеливый, стонущий крик от охватившего, ищущего – и бессильного желанья.
– Лелька, Лелька! Любимая моя, жена моя!
– Да. Жена… – повторил это слово, и оно было теперь строгим, таинственным и важным.
– Ну да. Я люблю ее как жену. И счастье – это она. – Сказал он просто и ясно, точно говорил о чем-то старом, давно решенном.
Сразу заметил это, и заговорило в нем на минуту старое, недоверчивое, спрашивающее.
– Почему она – счастье? А счастье борьбы – и победы или гибели? А мой разум?
И новый Белов радостно и смело ответил:
– Это все – кусочки жизни – и борьба, и жизнь разума. И в них работает не все мое существо, и дают они не все счастье – только кусочки его. Радостно пожертвовать собою, отдать себя в борьбе? Да? А если я отдам себя, свои мысли – сначала ей, любимой, и возьму счастье, и отдам потом все – и любовь и себя – ведь жертва будет больше. И если в жертве счастье – и счастье больше?
– Ну да, да, – радостно отвечал себе, оживая.
– А жизнь разума, борьба, творчество – ведь все это даст в тысячи раз большее и живое счастье, если сначала отдать его любимой и опять получить от нее.
– И если желание счастья – то, что двигает всеми людьми и всею жизнью – а это так, то любовь должна родить тысячи красивых и смелых поступков и сделать их в тысячу раз сильнее, смелее и красивее.
– И те, которые говорят, что любовь может мешать…
– Да ведь это я говорил, ведь это я, – вспомнил Белов и улыбнулся снисходительно.
И почувствовал всем своим существом, и понял ясно и твердо, что без любви – нет счастья, без любви – страстной, сжигающей стыд – когда двое любят тело друг друга, как свое, и любят ум, волю другого, поступки, как свои.
И что для него нет счастья – без Лельки, без ее синих глаз, без ее маленьких рук, без ее нежного и горячего тела, без ее серебряного смеха, без ее острого и радостно-пытливого ума. Вспомнил, что в книге лежит начатое письмо к Лельке, к жене.
Изорвал и стал писать новое, не останавливаясь и почти что не думая.
V
– Все ты говоришь о Леле. Любишь ее?
Ни на минуту, ни на миг не остановился Белов и простучал уверенно и твердо:
– Люблю.
И когда Тифлеев стукнул быстро и звонко, точно радуясь его счастью, он добавил:
– Очень.
– А отчего свидание не устроишь? Ведь хорошо. А с невестой они дадут.
Удивился, как эта светлая и простая, как солнце, мысль не явилась раньше. С невестой, с женой – должны дать. Если они люди… А бояться показать, что он знает ее – теперь уже нечего. Ведь все равно после – если она пойдет за ним…
Свидание! Счастье безумное.
Вдруг – видеть Лельку, и слышать ее голос, и целовать…
Как если бы солнце середь ночи – дождливой, холодной, мертвенной – выпрыгнуло из-за облака и засмеялось золотистым смехом.
Да ведь оно уже почти взошло – солнце. И если оно двигается – солнце-счастье, оно совсем придет и без следа развеет тьму…
Как только отошел от трубы, вынул письмо. Было оно сложено длинной белой полоской и запрятано в корешке книги.
Выбрал свободное место на тонкой, мелко исписанной бумаге и писал:
«Опять, как вчера, я люблю тебя – больше нельзя любить – жду тебя, и твоих ласк, и твоих взглядов.
И если это так, если ты меня любишь, а для меня ты – солнце и счастье – подумай: можно добиться свидания. Придешь как моя жена. И я почувствую тебя, и увижу твои глаза…
Сердце бьется, как безумное, когда думаю об этом. Это будет».
И опять читал сначала, и опять становилось тепло и радостно: были эти слова рождены его любовью, как лучи солнцем.
Радостный и улыбающийся, он долго ходил по камере, а потом заглянул вниз – на прогулку.
Захотелось чего-то отчаянно-мальчишеского, смешного, дерзкого.
Раскрыл мысли и перебирал их, и среди них одна лукаво улыбнулась ему.
И он положил губы на холодную медь фортки, пригнулся, чтобы снаружи не было видно, и во всю силу голоса крикнул:
– Эй! То-ва-ри-щи-и!
Яркой, дрожащей пеленой повис крик над двором и заколыхался – и все смотрели вверх. Ухнуло в камере эхо и, дерзкое, хохочущее, помчалось по коридорам, раскидывая по сторонам тишину.
Вдруг засуетились и забегали за дверями, зазвенели ключами, останавливались и спрашивали. Точно загорелось – и проснулись все.
Потом стояли около его двери и говорили:
– Это – не он. Этот – тихий.
Он слушал и хохотал, и ему было весело.
А солнце смеялось в окно, и лучи его щурились от смеха и кривлялись, переламываясь на наклонном подоконнике.
Снаружи у окна сели два голубя – самец и самка. Самец был надутый и расфранченный – в золотом воротнике вокруг шеи, а самка – маленькая и кокетливая.
– У-у-у! У-у-у! – вдруг зарычал самец важно и громко. Распустил крылья и хвост, отошел в сторону от самки, закружился там. Смешно топтался ногами и приседал.
А самка притворялась, что ничего не видит и ничего не понимает, и старательно клевала железо подоконника.
Белов смотрел на них в упор в отверстие фортки и вдруг не выдержал и фыркнул.
– У-у-у! У-у-у! – опять затоптался и надулся самец.
…Ну точь-в-точь – люди, когда они кокетничают и притворяются – перед другими и перед собой, – что они ничего не понимают и не знают, что их влечет друг к другу и чего они ждут один от другого. И как этот расфрантившийся самец, так же глупо и смешно рядятся друг для друга, а сами ждут видеть один другого без этих глупых воротничков, и корсетов, и перчаток.
И обманывают друг друга словами и поступками, и сами себя, и стараются скрыть свою любовь, как что-то стыдное…
Вспомнил о своем последнем письме, изворотливо и хитро говорившем между строк о его чувстве – о письме, которое изорвал.
– Дурак, как этот самец, – обругал себя с досадой.
А самец в это время подбежал уже к самке. Собрал хвост и опустил перья на шее и на груди. И все его тело изящное и стройное, и сильная, выпуклая грудь, отливающая золотом, – обрисовалась теперь ясно и красиво. А самка перестала глупо клевать железо и, подняв голову, смотрела навстречу покорным и ждущим взглядом.
Крылья плескались и трепетали в воздухе, глаза подернулись красивой прозрачно-голубой пленкой. А солнце играло с золотистыми перьями и ласково смотрело на них.
Оба они были красивы теперь. Любовался ими.
– …Глупы и смешны, когда влюблены, и хороши, когда любят. Как люди, – сравнивал опять Белов.
Была суббота. Ударили в колокол – и звуки долетели сюда слабые, слепые, дрожащие. Стукнулись – мягко и робко – в окно, в лицо Белову, в голубей. И они улетели – счастливые, любящие.
На минуту стало пусто и грустно в камере. Солнце заходило.
– Когда еще я буду не один, – подумал он с тоской.
А любовь – сильная и живая – встала перед ним розовыми, последними лучами солнца и улыбнулась укоризненно и весело: разве он не верит ей?
Заворожила верой – могучей и крепкой – и легко, одним толчком, отбросила далеко и тоску, и страх, и отчаяние.
* * *
Зашевелились и загремели в коридоре. Отворяли одну камеру, потом другую – верно, повели их в церковь. Вдруг застучали, вошли двое.
– В город. Приехали за ним…
На допрос! Забилось сердце сначала тревожными и быстрыми толчками, а потом веселыми и легкими.
– Это – борьба. Это – весело. – Он почувствовал в себе силу, смеющуюся, вызывающую. Тряхнул головой – едем!
Улица. Небо – громадное, невиданное, новое! Взмахнуло над головой звездами – их тысячи смеются наверху.
А дома, дома! Разные все стоят, большие и маленькие. Дома – милые, светлые! И мальчишки бегут. Мальчишки!
В карете черные шторы. Рядом сел человек в серой шинели, в бороде, с револьвером. Борода – как у унтера – дядьки в гимназии.
Застучали, покатились. Странно как: ехать вперед, вперед, далеко… Голова кружится.
– А! свернули куда-то?
Конки звонят, бегут. Над ухом лошадь фыркнула.
Посмотреть туда на живых. Ну, чуть совсем.
– Чтобы не видно было снаружи? Хорошо, хорошо.
…Людей сколько, Господи!
Студент с девушкой – за руку. Милые, хорошие. Ну, постойте, ну, секунду еще!
Фонарщик лезет. Успеет зажечь, пока доедем? Ну?
Шум, шум, веселый – и сразу точно лопнули струны: темная, пустая улица. Что там в этом домике – за светлым замерзшим окном?
Бегут, спешат мысли, подпрыгивают, скользят… Катится карета…
– Трак! – щелкнула дверца, дохнуло холодом.
Темный двор, шаги сзади. Узенькая, грязная лестница и коридор – длинный, угрюмый. Вниз куда-то…
Странная комната с сумрачными сводами. Лампа вверху – обрезает темноту, а внизу еще непонятней клубится и копошится она.
А! Тут ждать…
Шевелятся фигуры в углу – темные, без лиц. Головы качаются – и свечка качается удивленно. Смеются хрипло и делают что-то. Что?
Вот, у стола, круглые и четырехугольные ящики и длинные, круглые валы. И темная, плотная стена печатной бумаги.
Опять пригибается свечка и тусклые, испуганные взгляды бросает кругом.
Снуют и шепчутся физиономии, с поднятыми кверху усами и стеклянно-блестящими глазами. Шушукаются и сталкиваются за спиной и опять бегут мимо… Противно, противно…
– Как долго!
Секунды бегут, минуты, тени, лица… Опять лестницы и коридоры – и вдруг свет, холодный, яркий.
Двое их – ждут за столом, двое – кольнули взглядами.
Злое, насмешливое шевельнулось и потянулось к ним через прищуренные глаза и улыбку.
И началась игра, острая и страшная, как танец на канате, и приятная, как заглядывание в пропасть.
Со смехом бросал им нить и дергал ее. И они бежали за ней и хватались за нее, радостные, торжествующие. Сдается он уже, тише и короче говорит, а глаза смеются, и на губах шевелится и жалит змея.
И сразу выдергивает нитку – летят они навзничь и, смущенные, стараются незаметно подняться.
Молчат секунду, роются в белых листках – шуршат…
Вытаскивают и заносят над ним самое тяжелое, острое.
И рассекают пустой воздух:
– Ну-с, на сегодня, пожалуй, этого развлечения достаточно? Не будет он больше отвечать. Скучно.
Сверкают зубы, и глаза щурятся, смех дрожит в них…
– …Если бы Лелька все это видела!
И опять карета, темные и светлые улицы, и мягкое покачивание на рессорах…
* * *
Теперь Белов знал, что его ждет. Длинные, темные годы пойдут медленными, тяжелыми шагами – в кандалах.
Но это уж не шептало черных мыслей – как раньше, и было на душе бодро и радостно: завтра придет от нее письмо, и в нем – ее любовь.
VI
Проснулся и лежал, закрывшись с головой, вытянувшись. Темнота лежала вместе с ним, теплая и мягкая, и только там, где были ноги, пальто не хватало – пробирались лукавые, смеющиеся лучи, толкали и будили тьму. А вытянутое и гладкое пальто смотрело сверху, как крышка.
– Так в гробу буду лежать. И так же темно будет. А сверху будут лезтъ черви – слепые, жадные, скользкие…
И так нелепа и невероятна была эта мысль, что ей нельзя было верить. И не поверил. Страшно ничуть не было – он засмеялся даже.
– Не может быть. Не умру, – подумал Белов спокойно и уверенно.
Окно было запушено ночной вьюгой – точно чем-то теплым и мягким завешено снаружи. Лучи ударялись о снежинки и блестки и щекотали их, а те смеялись и сияли глазенками, и шутливо отбивались от них, отбрасывая ледяными искорками.
Было весело – точно звонили, переливались, подплясывали в воздухе колокола.
И сплошная, одинаково радостная, непрерывающаяся – как звон колокола – была кругом в воздухе мысль о том, что сегодня это должно случиться, сегодня должно прийти письмо.
Радостно было и ждать, что сейчас отворится тяжелая дверь, и камера с густым и вонючим после чистки параши воздухом останется позади, а он будет дышать холодом и свежестью.
Быстрыми и легкими шагами ходил Белов в своей клетке.
Было легко – точно весь тянулся кверху.
Там – небо, чистое, синее. Засмеялась весна – далеко еще где-то, за морем. Резвый и чистый, как звон серебряного колокольчика, долетел смех, перегнулся сюда – в темный колодец смотрит голубым, ясным взглядом и звенит в душе.
Воздух – как хрусталь, холодный и чистый, а сквозь его грани тысячью огоньков мигают и смеются тепло и жизнь – чуть видно их, далеко еще они.
Облачко навстречу плывет – золотисто-розовое, мягкое. Купает свое нежное тело в голубом море и плывет навстречу весне и далекому невидному солнцу.
Хорошо там вверху. Без конца плыть вперед…
Карабкалась мысль вверх на головокружительную высоту и останавливалась. Опять поднималась и останавливалась, снова ползла, и все-таки оставалось перед ней что-то непонятное.
И от этой синевы, в которой тонул и задыхался взгляд, начинала кружиться голова. Уплывали мимо серые с черными окошечками стены, и сам плыл куда-то, покачиваясь, на дремлющих, неслышных волнах.
Закрыл глаза. Было легко, и казалось, под ногами нет земли. И мысли были легкие и светлые – точно из лучей и хрустального воздуха.
* * *
Когда шел назад – душная и темная тишина тюрьмы побежала навстречу ему. И когда был наверху – она собралась и прянула снизу – огромная и зловещая.
Заглянул в лицо ей дразнящим и смелым взглядом и засмеялся навстречу ей: не боится он – сегодня ждет его письмо. Оно уже написано, и близко где-нибудь, и любовь с ним.
Потом глухая камера проглотила ею. И камень задышал в лицо, и решетка хотела сковать мысли – а ему было весело: она скажет ему сегодня, что любит. Скоро это будет, скоро.
Весело-золотистое облачко смотрит еще в окно, и весна, и жизнь издали смеются. Что ему решетка? Что ему стены?
Вот и Тифлеев ушел уже на свидание. Опять стало тихо, как замолчал его стук.
Смеркается. Часы зазвонили. Ну, скорее ночь, скорее радость…
Отчего вдруг такое темное, хищное стало небо и так страшно улыбается в окно?
Все равно! Не страшно – письмо уже получено! И это самое окно, и ночь помогут ему…
Как темнеет! Умерло уже розовое облако, и душа его, легкая, прозрачная, сотканная из солнечных лучей, – улетела, и глядит в окно тяжелая сине-серая туча. Она – мертвая. И в ужасе бегут от нее, мечутся последние лучи.
Мертвая, тяжелая, повисла над головой. Холодно…
– Ничего. Опять загорится радость и согреет – ночью прочтет он письмо…
* * *
Свечка горит. Кругом нее тени прыгают. И она кивает им, и говорит им на незнакомом языке – останавливаются, насторожились…
Вот оно, письмо, вот оно!
Розовым отливают тени, шепчут о любви, о прекрасных, обманчивых призраках…
«Сергей, мой милый товарищ! Вы, бедный, измучились, фантазируете, нервничаете, экзальтированный стали какой-то. Ну, разве можно так письма писать?
Боюсь не сделать бы вам больно, мой бедный. Я готова помочь вам всем – смело обращайтесь ко мне, но о свидании нельзя и думать: я уезжаю на днях со своим женихом. Его высылают отсюда.
Простите, что пишу это так прямо. Я знаю, вам не надо жалких слов. Ведь вы найдете в себе достаточно силы?»
– Что это?
Пламя вытянулось кверху – длинное, и все тени вытянулись – длинные – и слушают.
А он улыбается. Глаза неподвижные. Замерли на одной точке – нельзя сойти с нее, нельзя двинуться: кругом бездонной пропастью обступает ужас. Губы улыбаются и дрожат на мертвом лице.
– Ничего, ничего. Это – так. Не может быть, ведь…
Чудо? Нет чуда.
Простые, понятные и беспощадные, как смерть, слова охватывают мысли; рвут и топчут душу, с дикими воплями разрушают в ней все.
Умерла на губах улыбка – последняя в жизни. Умерла жизнь. Осталось чужое, страшное.
– Нужно найти в себе достаточно силы…
И знакомая пропасть вниз, полная смерти и молчания, раскрылась перед глазами.
Метнулось последний раз пламя красным стонущим блеском и потухло.
…Утушил – вспомнилось вдруг странное и страшное слово.
Сел на кровать. И казалось, рассудок, помертвевший и придавленный, вдруг вырвется и помчится с диким, безумным хохотом, и дрожью, и воплями.
VII
С утра качалось страшное, нелепое, невероятное – как если бы он сам стал выдавливать себе глаза и резать медленно пальцы. И когда он оглядывался на себя и на сухой, распаленный вихрь своих мыслей – он не верил им. Казались они ему чужими – и он не имел над ними власти.
Красным огненным потоком злоба залила его. И в урагане кружилась, и бросала вверх и разбивала о землю. Свою любовь разбивал он, сам себя разбивал. Скрежетала зубами его гордость, и металась, и падала в одном вихре со злобой, и визжала, и засохшими губами шептала проклятия.
Одно и то же видел он: сидит она у него на коленях – у другого, обвила его шею голой рукой, и погружает в его глаза свои, синие, и ищет там свое отражение.
И он самыми грубыми словами оскорблял ее – святыню, любовь, душу, ее – чистую, любимую Лелю. Плевал в лицо своему Богу и ударял его, и топтал ногами. И это было чудовищно и нестерпимо больно.
Он рвался к ней, к милой, к любимой, к счастью – чтобы кланяться ей, как Богу, чтобы жить для нее.
А она отворачивалась и не видела его любви, его безумного поклонения раба. Никто не мог так любить ее, а она не смотрела.
И опять потухало солнце, падал мрак в его душу, и кровавые, дымные тени бесновались и грызли – с визгом, и убивали себя.
Бегал по камере, кусая губы. Прижал руки к лицу – до боли. И потом бил кулаком по стене изо всей силы – искал боли, и зарывался головой в подушку.
Из темноты, низкая, приподнялась из земли мысль и показала свое подлое, злобно смеющееся лицо и оскаленные, гнилые зубы.
Вздрогнул и отвернулся – так отвратительна и гнусна она была. И опять поднялась она, эта мысль, и встала во весь рост. Как дьявол была в дыму злобы, отвратительная и манящая. И Белов пошел за ней.
Взял все письма. Была там вся она, чистая и любимая, были ее нежное сострадание и теплая ласка, и слова утешения. Были это ее письма, которые были для него самым святым в тюрьме и которые целовал он.
Взял письма и разодрал их. И бросил в самое гнусное место, куда не бросал даже своих плевков – бросил их в парашу.
* * *
Ночь спустилась над тюрьмой тяжелой, мраморно-черной плитой. Придавила тысячи страданий, тысячи людей заснули и забылись, а он не спал.
Ползали и копошились в темноте мысли, как могильные черви. Точили его мозг. И все красивое – чем он жил, все разлагалось и показывало свои кости – пугающие и отвратительные.
И в этом смраде смерти родилось письмо – безумное, нелепое, злобное. А поверх злобных и диких слов прорывалась любовь, могучая и неистребимая, росла поверх – как белые душистые цветы на могиле.
Хотелось, чтобы скорей получила она это письмо – точно это могло вернуть ее. Молил Тифлеева об этом. Пусть бегут за ней, пусть бегут, пусть ищут, пусть пошлют туда, куда едет она.
Опускал его в холодную тьму, куда-то глубоко вниз, опускал дрожащими, холодными руками. А в глазах и где-то там – за глазами, в темном, горячем мозгу, все росла нестерпимая боль, все глубже рылась корнями и распирала череп.
Потом на один миг, казалось, рассеялась тьма и все задохнулось – когда выпустил нитку из рук. И опять захлопнулась холодная, мраморно-черная плита и проглотила все.
Письма упали. Их найдут. Было это теперь все равно. Самое страшное уже случилось.
Всю ночь он не спал.
* * *
Пришло серое, неживое утро, а он все лежал с раскрытыми, неподвижными глазами. Вдруг лампочка загорелась и смотрела, бледная и измученная. Медленно повернулся к ней.
Потом люди пришли – четверо, и наполнили камеру шумом и говором, незнакомым и новым. И казалось, они двигались неслышно, и неслышно раскрывали рты, и махали руками, а звуки жили отдельно и все были в одном месте – точно выходили из какой-то трещины в своде. Было все, точно во сне.
Искали везде. Наклонялись и поднимались – неслышно – и бросали белье, и потом сидели по углам, и тогда не было видно их лиц. Брали книги и высоко поднимали их, перелистывались неслышно страницы и пестрели, белые, в глазах – это было неприятно. Прятались под кровать.
И потом вдруг грубо перевернули его и поставили на ноги, и ползали по телу грязными руками. Холодные руки клали на одно место и долго держали так зачем-то. Потом двигались дальше и сжимали его со смехом.
Смеялся один из них и говорил наглые, грубые, бьющие в мозг слова о какой-то девушке – и потом все смеялись грязным, ползающим по телу смехом.
Острой, холодной льдинкой упала в раскаленном мозгу мысль: это – знакомое, это – он слышал.
И вдруг ужас перед сделанным захватил дыхание. Это были – его слова! Это – он писал! Нашли письмо – и повторяют его слова – о Лельке. Из письма, из письма…
А хохот еще дрожал, и издевался, и плевал – в его Лельку. Туманом застлало глаза.
Размахнулся и ударил одного – в лицо, в смех. Голова назад покачнулась – ах, хорошо.
Упало что-то горячее на грудь и на темя – сзади. И потом поплыло в красном, жарком тумане. Мысли утонули в черном…
* * *
Темно на дне…
И вдруг – точно повернули внутри кнопку электрической лампы. Очнулся – и все случившееся вздрогнуло и проснулось в сознании и стало понятным и болезненно-ясным – точно вырезанное из мрака молнией.
Одинокая и резкая, как шпиц колокольни в грозу, забелелась на темном и кольнула мысль.
– Значит, конец.
Дрожь пробежала, будто что-то тысяченогое, по телу.
Потом зазвучал вдали неясно и чуть слышно какой-то вопрос – и Белов закрылся от него. А он летел с бешеной быстротой, точно одинокий локомотив, и бил уже в набат, мчался и потрясал воздух, и грозился свалить.
Поднялся Белов и пошел, легкий, качающийся, точно он не имел весу.
Стоял у трубы и уже знал в глубине он, что нет Тифлеева, и зарывал эту мысль старательно и хотел не смотреть на нее.
– Тук-тук-тук, – сверкнули звуки и тысячу видений осветили в душе.
Страшно было поверить сразу. Еще постучал.
И поднялось молчание снизу, выросло и расширилось. И стало огромное, как мир, как ужас.
Месяц смотрит бледными глазами и молчит. Темнота стала мертвой и холодной. Вздрогнули и замерли стены.
И внутри все замолкло, и стало темно и холодно.
– Динь-дон! – прозвонили тюремные часы и застыли.
И опять раздвинуло молчание свои черные, мертвые крылья и обняло ими все.
VIII
Небо в отчаянии закрыло лицо темными тучами. Тяжелые, теснятся они и подступают, как комок слез к горлу, и каждый миг готовы прорваться рыданиями.
Нет сил больше смотреть на мертвый пустой двор. Хочется броситься на эти остатки снега, упасть ничком и рыдать без конца…
А колокола все звонят, все звонят. Тусклыми, серыми змейками заползают в мозг звуки и мечутся в тоске, перегрызают мысли и терзают: ведь надо думать, надо думать.
Сильнее сжимал он голову руками и качался. И мысли качались и бились с болью в виски.
Потом зловещим заревом вспыхивало и освещалось все:
– А если нашли у Тифлеева ее адрес? И если уже взяли ее теперь? – Пылали щеки, и сухо становилось во рту, и дрожали колени.
И вдруг подумал – точно толкнули сзади.
– Нужно посмотреть в зеркало.
Оттуда глянуло сначала что-то серое и безжизненное и странно глубокое – непонятный, страшный мир. А потом он узнал себя. Глаза ушли вглубь – будто наступало на них, всё ближе, страшное – и они пригнулись, притаились и прыгнут сейчас с криком ужаса. А лицо было желтое и плоское, с кровоподтеками и синими пятнами – точно смерть уже грызла изнутри, как у трупа.
И жестоко, с ненавистью сказал себе:
– За это было любить его? За такую красоту и силу?
– Или, может быть, в нем – сила ума и пылающая сила слова?
И со страданием ответил кому-то холодному, безжалостно спрашивающему, кому он не смел говорить ложь:
– Нет. Все в нем обыкновенное.
И это простое слово звучало страшное, безнадежное, как приговор. Скрежетала зубами ненависть к себе, казался он себе маленьким, ничтожным, которого хотелось сбросить, прибить. А тот, кому отвечал он, вставал еще суровее и неумолимее и точно давил книзу тяжелой рукой. Из-под тяжести выскользнула и тускло блеснула мысль, пригнувшаяся и жалкая, просящая, как нищая.
– А мои страдания? Разве они ничего не стоят?
И с усилием ворочая мыслями, точно камнями, он ответил:
– Нет. За одни страдания нельзя любить. Ведь больные отвратительными болезнями, трусы, самые гнусные предатели… их страдания – больше всех. И тем больше, чем гнуснее и отвратительнее они…
И опять смешались все мысли, забывал он, о чем думал, и мучился этим, и спрашивал:
– Ну так что же? Ну так что же?
Сбрасывал с головы подушку, приподнимался на кровати и качался, весь белый, как в саване.
Опускалась мысль о смерти, понятная и близкая.
Метался, и хотел забыться и отвернуться, и этого нельзя было сделать: точно падали куда-то без конца мысли и видели перед собой только дно, конец, ужас. И все быстро мелькало мимо – как стены, пустое и гладкое, и нельзя было удержаться.
Гнилым, чахлым деревом трусливо высунулась мысль – ухватился за нее, на миг, перестал падать.
– А жить для борьбы с ними, для мести?
И обломилась сразу: заглянул он в себя и не увидел уже ни злобы, ни сил, ни воли. Уже умерло все, и трусливо шевелилась и хотела лгать полураздавленная жизнь, отвратительная и мертвая, как гнилая рана.
И он отбросил ее ложь и опять стал падать вниз, вниз.
Кружилась голова. Хотелось сесть и ждать, не двигаясь, того страшного, что должно было прийти и обрушиться.
Мучила жажда – точно в горле был насыпан сухой горячий песок.
* * *
За стенами холодная тьма дрожит и слушает: ничего не слышно снаружи – только вода булькает в трубах.
Это ворчит чудовище из железа и камня, и грызет свои жертвы, чмокает и сосет потихоньку.
А они – живые еще. И бьются о стены пылающей головой и бледными руками. Уходят далеко вглубь глаза и обводятся черными кругами, и делаются громадными. И протягивают все руки в темноту, напитанную их стонами, и молят, и ждут: неужели никто не услышит?
Никого. Одна ночь слушает и молчит.
А потом, когда уже замолкли все они и лежат неподвижно, и кажется, что умерли – она бледнеет и двигается беспокойно.
Бледнеет и обливается холодным потом – точно приняла в себя все муки, какие видела.
Качается мрачная ночь из стороны в сторону и в клубки собирает свое тело – корчится. Шевелится мрак и со стонами раздвигаются его недра, бледный рассвет рождается из них, заливается кровью.
Из темных углов, полных мохнатой пыли, ползут душные сны.
И кажется ему, что он стоит на пустынном берегу.
Не видно ничего – ни впереди, ни сзади, ни по сторонам – не видно ничего, кроме одного только тумана и раскрытой пасти волн у ног.
Он не темный туман – он светлый, и еще страшней от этого: светлый – он видит все, и каждую мысль хищно сторожит он. Серый, мертвый, удушливый, как тюремные стены, – туман.
И нет от него спасенья, и некуда бежать: ведь никого кругом, кроме серого тумана и молчанья могилы, а волны в этом молчаньи бьются, как мысли, и нет им выхода, звуки их – неживые.
В них спасенье от тумана, в тумане – от них.
С болезненным любопытством и с ощущением чего-то постороннего под ложечкой еще раз заглянул в суровые, зеленые волны.
Точно огромная глыба льда, вырос внутри ужас. Медленно, с трудом Белов вытянул руки и вздрогнул всем телом.
* * *
Один миг радости: все это сон. Живет еще тело, и чувствует он, как двигаются руки и ноги и смотрят глаза. Во сне это было – страшный туман и смерть.
Ласковый день наклонился над ним и осыпает его молодыми весенними лучами – точно цветами. Резвые и бодрые, разрумяненные утренним холодом, прибежали звуки со двора и толкают шутя друг друга. Это дрова пилят внизу, и смеются там, и голуби воркуют.
И он видит это и слышит!
А вот на крышах солнечные лучи целуются со снежинками, родившимися ночью – невинными и нежными. И радостно умирают снежинки под весенними лучами, и новые отдают свое тело их любви – и рядом идут смерть и любовь.
– Вот и жизнь. Вот и весна, – подумал он.
И глянул со страхом внутрь себя: никакого эха не дала там мысль – точно была там глухая, мертвая стена.
Искал смысла слов – и не находил. И стояли они перед ним пустые и прозрачные, как хрусталь, с которого слетели переливавшиеся в нем и волновавшие его солнечные лучи.
Стоял у окна. Мимо ушей ветер шелестел, и голова кружилась, была странно-легкая – от пустых и прозрачных мыслей. И оттого, что смотрел он в эту пустоту, и оттого, что шелестел ветер, казалось, что нет у него тела, и поднимается он вверх и видит внизу себя: стоит, прислонился к стене, оборванный и бледный.
И было странно, что умер или девался неизвестно куда гимназист Белов, розовый и веселый, молившийся Богу и боявшийся Его, и умер студент Белов, сильный и молодой, любивший жизнь и борьбу. И казалось бессмысленным и странным, что теперь этот бледный и обросший человек был тоже Белов, и что заперт он в вонючей комнате и думает о смерти. И нельзя было этому верить.
Долго стоял и смотрел в дверь – в одну точку. Не хотелось сдвинуть взгляд и переломить его – прямой, неподвижный.
И вдруг железная дверь стала сразу живой и страшной. Раскрыла свой глаз – с визгом, будто скрипнула зубами и злобно выдвинула вперед нижнюю челюсть.
Раскрыла свой глаз и смотрела пристальным, длинным, как бесконечная проволока, взглядом. Извивался и острыми крючками цеплял кровавые раны. Переплетающимися горячими тенями и дикими стонами наполнился мозг.
Стоял в одной рубашке, с безумным взглядом.
Пробежало что-то в груди – и вырвалось криком – точно брызнуло кровью.
Добежал до кровати. Забился в подушку.
Целый день лежал. Точно на дне, придавленный глубиною бездны. И там не было ни времени, ни пространства, ни света, ни воздуха, ни мыслей.
Не смел пошевельнуться, ни встать, когда принесли обед, ни выпить воды, чтобы утолить жажду.
Не было времени. И не знал, сколько лежал так – час, три, пять. Когда остановились около его двери шаги, и он открыл глаза – ясного, светлого дня уже не было.
Отворили двери, чтобы вести его на прогулку.
– Пора? – сказал он вслух, и показалось, что это кто-то другой сказал незнакомым, хриплым голосом.
И от этого слова передвинулось в сторону сердце, и точно разорвало что-то внутри и ударяло в рану больно и неровно. И эта боль – где-то внутри под ложечкой – была странно-знакомая и недавняя.
Не мог никак вспомнить, когда это было.
– Да когда же? Да когда же?
Несколько мгновений стоял на месте и мучился, и потом вспомнил, что это было во сне.
Надел пальто и шляпу и плотно застегнулся. Отворил зачем-то фортку и двинулся вперед в темноту.
Ноги были чужие, и весь он был страшно тяжелый – и гнулись оттого, и дрожали колени.
А потом дрожь побежала выше – по спине, и по животу, и по груди. Точно замерзло все снизу в душе, и было мертво – и только на поверхности дрожала рябь, бледная и холодная.
И подумал он:
– Я дрожу.
Он прикусил губы и сжал в кармане руку нарочно, чтобы сделать себе больно. Нащупал что-то и вытащил. Платок. Пахнуло вдруг знакомым запахом, острой яркой болью ударило в голову.
И опять все погасло, и потемнело в глазах. И ни одной мысли не родилось уже более.
До угла галереи, до поворота оставалось восемь шагов.






