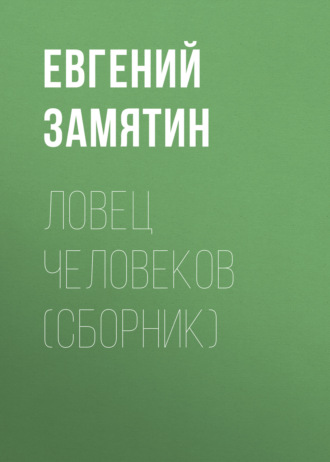
Евгений Замятин
Ловец человеков (сборник)
7. Апельсинное дерево
У Польки, у дуры босоногой, на кухне только одно окошечко и есть, да и на том стекло зацвело, от старости заразноцветилось. А на окне у Польки – баночка.
Посадила – давно уж, с полгода будет – в баночку эту Полька апельсинное зерно. А теперь, гляди, уж и целое деревцо выросло: раз, два, три, четыре листочка, малюсеньких, глянцевых.
Помыкается на кухне, погремит Полька горшками – да и опять подойдет к деревцу, листочки понюхает.
– Чудно. Было зерно, а вот…
Берегла-холила. Кто-то сказал, что, мол, хорошо это для росту – стала деревцо поливать супом, коли остался от обеда.
Раз Барыба из трактира вернулся поздно, встал утром злючий-презлючий, чаю глонул – и сейчас в кухню, душу отвести. Звала его теперь Полька не иначе как барином: очень лестно.
Полька как раз у окна своего возилась, около деревца любезного.
– Где кот?
Полька, не обертываясь, копошилась. Робея, отвечала:
– Они, барин, ушли. Да где-нибудь на дворе, наверно, где ж еще?
– Ты это что там стряпаешь?
Притихла, сробела, молчала. Блюдце с супом в руке.
– Су-упом? Траву поливаешь? Для этого тебе суп даден, дуреха ты этакая? Сейчас подай сюда!
– Ды-к, это пельсин, барин…
Полька затрепыхалась от страха: ох, и что теперь будет?
– Я те покажу пельсин! Супом поливать, дура, а?
Барыба схватил баночку с апельсином. Полька заревела. Да что тут долго с ней, дурой, вожжаться? Выхватил с корнем деревцо да за окно, а баночку поставил на место. Очень даже просто.
Полька ревела в голос, грязные полосы наследились от слез на лице, причитала по-бабьи:
– Пельсин мой, ды-ы батюшка, да как же я без тебя буду-у…
Барыба весело поддал ей сзади пару, и она выкатилась из двери, по двору – да прямо в погреб.
Разгрыз какой-то камень, вот тут, с Полькой, с апельсином этим – и полегчало сразу. Скалил зубы Барыба, пьянел.
Увидал в окно, как Полька спустилась в погреб. Повернулся в голове медленно какой-то жернов – и заколотилось вдруг сердце.
Вышел на двор, огляделся по сторонам и юркнул в погреб. Плотно закрыл за собой дверь.
После солнца – да в темь: совсем ослеп. Шарил по сырым стенам, спотыкался:
– Полька, где ты? Ты там где, дура, зачихачилась?
Слышно, где-то хлюпает Полька, хнычет, а где… Затхло, могильно, сыро. Щупал руками по картошкам, кадушкам, свалил деревянный кружок с крынки какой-то.
Вот она, Полька: на куче картошек сидит, размазывая слезы. Крошечная какая-то дырочка вверху – пролез один хитрый, прищуренный лучик и отрезал кусок косы у Польки с тряпичной лентой, пальцы, грязную щеку.
– Будя, будя, не реви, засохни!
Барыба легонько налегнул на нее, и она повалилась. Послушно двигалась и была вся, как тряпочная кукла. Только еще чаще захныкала.
Во рту пересохло, язык еле ворочался у Барыбы. Плел что-то – так, чтоб занять ее голову, отвлечь ее от того, что он делал:
– Да, ишь ты, штука какая, пельсин! А ты и реветь? Мы тебе, вместо пельсина, дай-кось, ерань купим… Ерань – она… это самое… духовитая…
Полька тряслась вся и хныкала, и в этом была своя особая сладость Барыбе.
– Так, та-ак! Реви теперь, ну, реви вовсю, – приговаривал Барыба.
* * *
Польку выпроводил. Сам остался еще, растянулся на куче картошек, отдыхая.
Вдруг заулыбался Барыба до ушей, довольный. Сказал вслух Чеботарихе:
– Что, перина старая, съела, ага?
И показал в темноте кукиш.
Вышел из погреба, зажмурился: солнце. Поглядел под сарай: там копошился, спиною к нему, Урванка.
8. Тимоша
Сидели в трактире за чаем. Тимоша приглядывался все к Барыбе.
– Неуютный ты какой-то, погляжу я. Бивали тебя, должно быть, вот как.
– Бивали, как же, – засмеялся Барыба. Лестно даже было: бивали – а теперь вот поди-ка, сунься.
– То-то ты и вышел такой, чадушко. Души-то, совести у тебя – ровно у курицы…
И завел свое – о Боге: нет, мол, Его, а все выходит, жить надо по-Божьи; и о вере, и о книгах. Непривычно было Барыбе так много молоть своим жерновом, томили Тимошины мудреные слова. Но слушал – тяжелый телегой тащился за Тимошей. Кого же и слушать, как не Тимошу: голова-парень.
А Тимоша уж дошел до самого своего до главного:
– Вот, покажется иной раз – есть. А опять повернешь, прикинешь – и опять ничего нет. Ничего: ни Бога, ни земли, ни воды – одна зыбь поднебесная. Одна видимость только.
Тимоша повертел по-воробьиному головкой, теснило что-то.
– Одна видимость. Дойти-то до этого, что-о! Нет, а вот с одним ничем-то этим с глазу на глаз пожить, воздухом-то попитаться. Вот тут, брат…
И увидел, что заблудился уж Барыба, отстал, спотыкнулся.
Махнул Тимоша рукой:
– Э, да что! Ни к чему тебе это, ты-то утробой живешь… У тебя Бог-то съедобный.
Вышли из трактира. Ночь июньская, нежаркая, липой пахнет, сверчки в траве заливаются. А Тимоша в ватное обряхался, ну и чудак же!
– Ты что ж это, Тимоша, кутафья кутафьей?
– А, да ну! Не спрашивал бы. Ту-бер-ку-лоз, брат. Так фершал в больнице и сказал. Простужаться – ни Боже мой.
«Ишь ты, то-то он квелый такой» – и как-то увесисто почуял вдруг Барыба тяжесть своего звериного, крепкого тела. Шел тяжко-довольный: было приятно ступать на землю, попирать землю, давить ее – так! Вот так!
У Тимоши, в комнатушке с драными обоями, сидели за некрашеным столом трое ребят, веснушчатых, востроносых.
– Мать где? – крикнул Тимоша. – Опять нету?
– К земскому ушла, приходили, – робко сказала девочка. И стала в углу надевать полсапожки: неловко босиком-то, чужой какой-то пришел.
Тимоша насупился.
– Давай кулеш, Фенька. Да бутылку из выхода принеси.
– Мамаша не велела бутылку.
– Я те дам мамашу. Живо, живо! Садись, Барыба.
Сели за стол. Наверху пищала тоненько лампа жестяным абажуром, увешанным дохлыми мухами.
Фенька из миски стала было отливать в долбленку кулеш ребятам. Тимоша на нее крикнул:
– Это что? Отцом родным гребуете? Мать подучает все? Ну, я ее подучу, дай-ка, придет вот! Шляется…
Ребята стали хлебать из общей миски, не в охотку, понуро. Тимоша хихикнул криво и сказал Барыбе:
– Вот Господа Бога искушаю. В больнице говорят – она, мол, прилипчивая, чахотка-то. Ну, вот, и погляжу: прилипнет к ребятам ай нет? Поднимется у него, у Господа Бога, рука на ребят несмысленных, – поднимется ай нет?
В окно постучали чуть-чуть, робко.
Тимоша торопливо распахнул раму и пропел ядовито:
– А-а, пожаловала?
И потом Барыбе:
– Ну, брат, сбирай свои манатки. Больше тебе тут глядеть нечего. Тут дело пойдет сурьезное.
9. Ильин день
Под Ильин день вечер – особенный, и благовест – свой особенный: в соборе – престол, в монастыре – престол, стряпухи во всех домах пироги к завтрему пекут, а в небе Илья-пророк громы заготавливает. И небо-то под Ильин день какое: чисто да тихо, как в избе, вымытой к празднику. Все-то спешат по своим церквам: не дай Бог к Ильину тропарю опоздать, будут весь год слезы литься, как дождь, от века положенный на Ильин день.
Ну, уж это кто-кто опоздает, да не Чеботариха только, первая она богомольница в Покровской церкви. Во-он когда, загодя еще, запряг лошадей Урванка.
Запряг, идет по двору – как раз мимо погреба. Глядь – а дверь открыта. Буркнул Урванка:
– Ишь, дьяволы, и дверь-то расхлябячили. Люди Богу молиться идут, а они – на-ка тебе. Охальники!
И посолил словечком покрепче. Хотел было дверь закрыть, да нет. Постоял, ухмыльнулся.
Пришел доложить Чеботарихе: все, мол, готово.
– А только дозвольте вас просить через черный ход выйтить… – и узлом завязал Урванка улыбку на закопченном своем лице: поди-кось, раскуси, что она такое означает.
– Чтой-то мудришь ты, Урванка! – сказала Чеботариха. Однако ж поплыла, шурша шелковым, коричневым с цветочками платьем.
Спустилась, пыхтя, по ступенькам. Прошла мимо погреба.
– Дверь-то бы закрыл, догадался. Все им скажи да покажи… – Чеботариха женщина степенная, хозяйственная, а такая мимо раскрытой двери разве пройдет спокойно? Хоть и не надо, а закроет.
– А их-то как же, припереть там прикажете?
– Кого такое – их?
– Как кого? А Анфим-то Егорыч с Полькой? Чать, и им бы надо под Ильин-то день ко всенощной сходить?
– Брешешь, пыдлец ты этакой! Ни в жисть не поверю, чтоб Анфимка с ней…
– Да вот разрази меня Илья завтра громом, коли ежели я вру.
– А ну, перекрестись?
Урванка перекрестился. Стало быть – правда.
Побелесела Чеботариха и затряслась, словно опара, взбухшая до самых краев дежи. Урванка подумал: «Ну, завоет». Нет, вспомнила, видно, что на ней шелковое платье. Выпятила важно губу и сказала, будто ничего такого и не было:
– Урван, дверку-то закройте. Пора нам, пора в церкву.
– Слушаю, матушка.
Щелкнул засовом, отвязал лошадей, запылила по дороге знаменитая линейка Чеботарихина.
* * *
Чеботариха стояла, как всегда, впереди, у правого клироса. Сложила на животе руки и уперлась глазами в одну точку, на правом дьяконовом сапоге. К сапогу прилипла какая-то бумажка, дьякон стоял перед Чеботарихой на амвоне, и бумажка не давала покоя.
– «Недугующих и страждущих»… И меня, стало быть, страждущую. Ах ты, Господи, ну, и подлец же Анфимка!
Кланялась в землю, а бумажка на сапоге – вот она, так и мельтешится перед глазами.
Ушел дьякон – еще того хуже: нейдет из головы Анфимка проклятый. А она-то его холила, а?
Только во время «Хвалите» Чеботариха и развлеклась немного, о Барыбе чуть позабыла. Нет, каково: дьяконова-то Ольгуня, образованная-то, столбом стоит! Вот оно, образование-то, все чтоб по-своему, не как все. Не-ет, надо дьякону про это напеть…
Сторож в отставном солдатском мундире тушил в церкви свечи. Дьякон вынес Чеботарихе на тарелочке хлебец: прихожанка она была примерная, богобоязненная, хорошо платила.
Чеботариха притянула его за рукав и долго про Ольгуню шептала на ухо и качала головой.
* * *
Урванка налегнул, отодвинул засов. Выскочил Барыба как ошпаренный.
– Чай кушать пожалуйте, – сказал, ухмыляясь, Урванка.
«Неужто не сказал?» – подумал Барыба.
Чванная, в шелковом, лубом стоящем, платье сидела Чеботариха, ломала на кусочки поднесенный дьяконом хлебец и глотала, как пилюли, очень громко: кто же святой хлеб жует?
«Ну, уж говорила скорей бы», – ждал Барыба, сердце трепыхалось и ныло.
– К чаю-то, может, молочка топленого велеть принести? – поглядела Чеботариха как будто и ласково. «Измывается либо? А может, и впрямь – не знает?»
– Да где ее, Польку-то, теперь сыщешь? Кургузить начинает, вешала-девчонка. Вы бы, Анфимушка, приглядели за ней.
Так вот, просто, будто бы и ничего, говорила себе Чеботариха, глотала хлебец по кусочкам, сметала со стола взятые крошки и ссыпала в рот.
«А ведь не знает, как Бог свят», – вдруг Барыба уверился. Развеселился, улыбался четырехугольной своей улыбкой, ржал – рассказывал, как дуреха эта Полька супом поливала пельсинное дерево.
Солнце садилось медное, ярое: задаст Илья завтра грозу. Алели белые чашки, тарелки на столе. Важная, молчаливая сидела Чеботариха и не усмехнулась ни един раз.
* * *
Весело отбивал Барыба поклоны в спальне, рядом с Чеботарихой, и благодарил неведомых каких-то угодников: миновало, пронесло, не сказал Урванка!
Загасла лампадка. Ночь душная, тяжкая под Ильин день. В темноте спальни – жадный, зияющий, пьющий рот – и частое дыхание загнанного зверя.
У Барыбы перестало биться сердце, заерзали перед глазами зеленые круги, слиплись на лбу волосы.
– Да ты что, али рехнулась? – сказал он, выпутываясь из ее тела.
Но она облепила, как паук.
– Не-ет, миленький, не-ет, дружок! Не уйдешь, нет!
И томила его невидными и непонятными в темноте, злыми ласками – и сама всхлипывала: замочила слезами все лицо у Барыбы.
* * *
До утра. Сквозь каменный сон услышал Барыба колокол – к Ильинской обедне. Во сне услышал какое-то пение и ворочал окаменевшие мысли, силился сообразить.
Но проснулся только, когда кончили петь. Вскочил сразу как встрепанный. «Да ведь это попы молебен в зале отпели!»
Оделся, глаза слипались, голова чужая.
Попы уже ушли. Чеботариха одна сидела в зальце, на кретоновом диване. Была опять в шелковом, лубом стоящем, платье и в кружевной парадной наколке.
– Проспали молебен-то Ильинской, а? Анфим Егорыч?
Может, оттого, что и правда – проспал и было уже около полудня, а может, оттого, что пахло в зальце ладаном – стало Барыбе неловко как-то, не по себе.
– Садитесь, Анфим Егорыч, садитесь, побеседуем.
Помолчала. Потом закрыла глаза и лицо сделала, будто и не лицо, а так – пирог сдобный. Голову набок – и сладким голосом:
– Так-то вот, грехи наши тяжкие. И не замолить их. А на том свете – Он-то, батюшка, все припомнит, Он, батюшка, в геенне серной дурь-то всю-ю выкурит.
Барыба молчал. «И куда это она гнет?» Вдруг Чеботариха распялила вовсю глаза и, брызгая слюной, закричала:
– Да ты что же, пыдлец ты етакой, молчишь, как воды в рот набрал? Ай, думаешь, я про шашни твои с Полькой ничего не знаю? Девчонку спортить, пыдлец ты етакой развратной, – нипочем тебе?
Ошарашенный, Барыба, молча, ворочал челюстями и думал: «А ведь вчера поросенка-то зарезали – это, поди, нынче к обеду».
Чеботариха совсем раскипелась от молчания Барыбина. Затопала, сидя, ногами.
– Вон, вон из мово дому! Змей подколодный! Я его на груде отогрела, паршивца, а он – на-кося! На Польку – это меня-то, а?
Не понимая, не в силах повернуть чем-то налитых мыслей, сидел Барыба, как урытый, молча. Глядел на Чеботариху. «Ишь, как брыжжет-то, брыжжет-то, а?»
Опомнился, когда в зальцу вошел Урванка и сказал ему с улыбкой, с веселой:
– Ну, нечего, брат, нечего. Проваливай-ка. Твово тут, брат, ничего нету.
И сзади нахлобучил Барыбе картуз.
* * *
Перед Ильинскою грозою пекло солнце. Ждали – воробьи, деревья, камни. Засохли, томились.
Барыба, очумелый, шатался по городу, присаживался на всех лавочках по Дворянской.
– Что ж теперь дальше-то, а? Что ж теперь? Куда?
Мотал головой и все никак не мог этого стряхнуть: балкашинский двор, ясли, собаки голодные дерутся из-за кости…
Бродил потом по каким-то задним улицам, по мураве зеленой. Проезжал мимо водовоз, у одного колеса соскочила, позванивала шина. Почуял Барыба, что и правда пить-то ведь хочется. Попросил, напился.
А с севера, от монастыря, насела уж туча, разломила небо на две половинки: голубую, веселую, и синюю, страшную. Синяя все росла, пухла.
Как-то себя не помня, очутился Барыба под навесом, у чуриловского трактира в подъезде. Лил дождь; сбились в подъезде какие-то бабы, задрав на голову подолы; громыхал Илья. Эх, все равно – валяй, греми, лей!
Само собой как-то вышло, что пошел Барыба ночевать к Тимоше. А Тимоша даже и не удивился нисколечко, как будто каждый день к нему Барыба ночевать ходил.
10. Сумерки в келье
Летом в четыре часа – самое глухое по нашим местам время. Никто из хороших людей на улицу и носу не высунет: жарынь – несусветная. Ставни все позакрыты, с полной утробой сладко спится после обеда. Одни вихорьки, серенькие, полуденными бесами приплясывают по пустым улицам. К калитке какой-нибудь подойдет почтальон, стучит, стучит. Да уж нет, не прогневайся: не откроют.
Непристанный, шатущий, бредет в эту пору Барыба. Как будто и сам не знает – куда. А ноги несут – в монастырь. Да и куда же еще? От Тимоши – к Евсею в монастырь, от Евсея – к Тимоше.
Стена зубчатая, позаросшая мохом. Будочка, вроде собачьей, у обитых железом ворот. А из будочки выходит, кривляясь, с кружкой Арсентьюшка, блаженненький – виттопляска с ним – вратарь, даяния собирает, неотвязный.
– Ишь, пристал, наяный!
Положил ему Барыба семитку и пошел по белым накаленным плитам, мимо могил именитых горожан за позолоченными решетками. Любили именитые тут хорониться: всякому лестно в монастыре лежать, и чтоб денно и нощно о нем ангельские чины молились.
Постучал Барыба в Евсееву келью. Никто не ответил. Он открыл дверь.
За столом без подрясников, в одних белых штанах и рубахах, сидели двое: Евсей и Иннокентий.
Евсей зашипел на Барыбу свирепо: ш-ш-ш! И опять уставился, не мигая, наливной, стеклянноглазый – в стакан свой с чаем. А Иннокентий, губошлепый, баба с усами – замер над своим стаканом.
Барыба у притолоки остановился, глядел, глядел: да что они, ополоумели, что ли?
У другой притолоки стоял Савка-послушник: масляные, прямые палки-волосы, красные, рачьи ручищи.
Савка почтительно фыркнул в сторону:
– Ф-фы! Дак, к отцу Евсею-то в стакан муха того и гляди сядет. Ай не видите, что ли?
Ничего не понимая, лупил Барыба глаза.
– Дак, как же? Это у них теперича самая разлюбезная игра. Пятак, там, гривенник поставят – и ждут, и ждут. К которому батюшке первому муха в стакан попадет – тот, стало быть, и выиграл.
Савке охота побалакать с мирским. Говорит, все время закрывая из почтения рот огромной красной ручищей:
– Гляньте-кось, гляньте-кось, отец Евсей-то.
Евсей – сизый, наливной, наклонился к стакану, щерился рот у него все шире – и вдруг грохнул, хлопнул себя по коленке рукой:
– Е-эсть! Вот она, голубушка! Мой пятак! – и пальцем выловил муху из стакана. – Ну, малый, чуть не подкузьмил меня. Спугнул ведь было мушку-то матушку.
Он подошел к Барыбе поближе, уставился стеклянными своими глазами, забубукал:
– А мы, малый, и видеть тебя не чаяли. Слышали, совсем бландахрыстом стал. Думали, до смерти баба тебя заездит. Ведь Чеботариха-то, она баба – я-те дам, жадёна!
Усадил чай пить Барыбу, сам допивал стакан, из которого выловил мушку-матушку. Да какая же без зеленого вина встреча? – выставил Евсей и косушку на стол.
Савка подал второй самовар. На столе – медяки, Псалтырь, крендели, рюмки с отколотыми ножками.
Иннокентий что-то расстроился после водки, глазки у него слипались, то и дело клал голову на стол, подперев кулачком. Жалобно вдруг запел «Свете тихий». Евсей и Савка подтянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и прикрывая красной ручищей рот. Барыба подумал: «Эх, все равно!» – и тоже горестно стал подвывать.
Вдруг Евсей оборвал и заорал:
– Сто-ой! Стой – тебе говорю!
А Савка все еще тянул. Евсей кинулся к нему, схватил за глотку и притиснул к спинке стула, полоумный, дикарь. Задушит.
Иннокентий встал, согбенный, старушечьими шажками подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки.
Евсей захохотал, забулькал, замахал руками, как пьяная мельница, отпустил Савку. Потом сел на пол и затянул:
На-а горе сидит калека,
У-бил чем-то человека…
Все, молча, усердно подтягивали, как раньше – «Свете тихий».
Смерклось, слилось, закачалось все в пьяной келье. Огня не зажигали. Иннокентий ныл и приставал ко всем, шамкая – старушонка с усами и седой бородой. Попритчилось вот ему, что поперхнулся он чем-то. Застряло вот в глотке, да и только. Колупал-колупал пальцем: не помогает:
– Ну-ка, попробуй ты, Савушка, миленочек, пальчиком? Может, и ощутишь что.
Савушка лез, вытирал потом палец о полу подрясника.
– Ничего, ваше преподобие, нету. Так это, пьяный бес блазнит.
Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так, ни слуху ни духу. Потом вскочил вдруг, лохмами своими затряс.
– По мне, ребятки, в Стрельцы бы, этта, теперь махануть. На радостях встречных. Барыба малый, а, ты как? Деньжат бы вот только перехватить где. У келаря разве? Как, Савка, а?
Невидный, у двери заржал Савка. Барыба подумал: «Что ж, отшибет, пожалуй. Позабыть бы все».
– Коли отдашь завтра… У меня есть малость денег-то, последние, – сказал он Евсею.
Евсей живо взбодрился, мотал, как веселый пес, головой, выпялил стеклянные свои глаза.
– Да я, перед Истинным вот, завтра отдам, у меня есть ведь, да только далеко спрятаны.
Шли вчетвером мимо могил. Полумертвый месяц мигал из-за облака. Иннокентий зацепился подрясником за решетку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли через стену по нарочно, для ходу, выломанным кирпичам.
11. Брокаровская баночка
Вот и опять тяжко-жаркий, дремучий послеполудень. Белые плиты на монастырской дорожке. Липовая аллея, жужжанье пчел.
Впереди Евсей, в черном клобуке, с приквашенными лохмами: нынче ему черед вечерню служить. А сзади – Барыба. Идет, да нет-нет и опять растворит, как ворота, четырехугольную свою улыбку.
– Уж больно ты, Евсей, в клобуке-то чудной да непригожий. Гречневик бы тебе мужицкий или папаху, куды бы гожее было.
– Да я, малый, и то – в юнкера хотел идти, да запьянствовал ненароком. Вот под монастырь и угодил.
Эх, Евсей! Какой бы краснорожий, сизоносый казацкий есаул из тебя вышел. Или бы писарь волостной, пьяница, мужикам панибрат. А вот, поди ж ты, изволением Божиим…
– А как ты, Евсей, плясовую-то вчера в Стрельцах откатал, а?
Во монахи поступили,
Самовары закупили…
Евсей заухмылялся, передернул было плечами. Да уж нет, в этом бабьем наряде – куда там. Вчера – вот это так: рубаху веревочкой подпоясал по-деревенски, под самые под мышки, порты крашенинные белые с синими полосочками, борода рыжая лопатой, зенки того и гляди выскочат – настоящий лешак деревенский, и плясать ловкач. То-то нахохотались стрелецкие девки вдосталь!
Пришли. Барыба постоял минутку у старых церковных дверей. Вышел Евсей, поманил пальцем:
– Ну, иди, малый, иди. Никого нету. Сторож – и то кудай-то ушел.
Низенькая, старая, мудрая церковь – во имя древнего Ильи. Видала виды: оборонялась от татаровья, служил в ней, говорят, проездом боярин Федор Романов, в иночестве Филарет. В решетчатые окна глядят старые липы.
Бубукает, шумит, не уймется и тут Евсей, есаул в клобуке. Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам – от махающего руками, бородатого, громкого Евсея.
Евсей стал на колени, пошарил рукой под престолом.
– Тута, – сказал он и вынес к свету пыльную баночку от брокаровской помады. Откупорил, перелистал, слюнявя, четвертные бумажки.
Беспокойно заворочал Барыба своим утюгом.
«Ох ты, дьявол! Десяток, а то либо и больше. И на кой они ляд ему?»
Евсей отложил одну бумажку.
– А остатние – либо на помин души оставлю, а то либо, этта, однова как-нибудь заберу все да стрелецким девкам на пропой раздарю.
Белые плиты монастырской дорожки. Гудят пчелы в старых липах. Тяжкий звон кружит хмельную голову.
«И на кой они ляд ему?» – думает Барыба.







