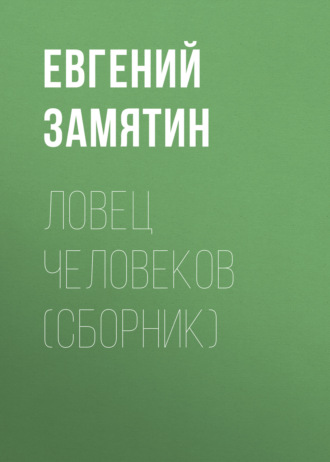
Евгений Замятин
Ловец человеков (сборник)
16. Пружинка
Нарочно, смеху для, распустил Молочко слух, что генерал вернулся из города. И Шмит на этом поймался. Сейчас же закипел: «Иду!»
Он стоял перед зеркалом, сумрачно вертел в руках крахмальный воротничок. Положил на подзеркальник, позвал Марусю:
– Пожалуйста, погляди вот – чистый? Можно еще надеть? У меня больше нет. Ведь у нас ничего теперь нету.
Узенькая – еще уже, чем была, с двумя морщинками похоронными по углам губ, подошла Маруся.
– Покажи-ка? Да, он… да, пожалуй, еще годится…
И, все еще вращая воротничок в руке, глаз не спуская с воротничка – сказала тихо:
– О, если бы не жить! Позволь умереть… позволь мне, Шмит!
Да, это она, Маруся: паутинка – и смерть, воротничок – и не жить…
– Умереть? – усмехнулся Шмит. – Умереть никогда не трудно, вот – убить…
Он быстро кончил одеваться и вышел. По морозной, звонкой земле шел – земли не чуял: так напружены были в нем все жилочки, как стальные струны. Шел злобно-твердый, отточенный, быстрый.
Ненавистно-знакомая дверь, обитая желтой клеенкой, ненавистно-сияющий генеральский Ларька.
– Да их преосходительство и не думали, и не приезжали вот ей-боженьку же, провалиться мне.
Шмит стоял упруго, готовый прыгнуть, что-то держал наготове в кармане.
– Да вот не верите, ваше-скородь, так пожалте, сами поглядите…
И Ларька широко разинул дверь, сам стал в стороне.
«Если открывает – значит нету, правда… Вломиться – и опять остаться в дураках?»
Так резко повернулся Шмит на пороге, что Ларька назад даже прянул и глаза зажмурил.
Шмит стиснул зубы, стиснул рукоятку револьвера, всего себя сдавил в злую пружину. Разжаться бы, ударить! Побежал в казармы – почему, и сам того не знал.
В казарме – пусто-чистые из бревен стены. Все были там, за пороховым погребом, – что-то никому не ведомое устраивали к генеральшиным именинам. Один только дневальный сонно слонялся, – серый солдатик, все у него серое: и глаза, и волосы, и лицо – все, как сукно солдатское.
Шмит бежал вдоль бревенчатой стены, мигали в глазах оголенные нары. За погон что-то задело, – глянул на стену, вверх: там – на одной петельке качалась таблица отдания чести.
Шмит рванул таблицу:
– Эт-то что такое? Ты у меня…
И так ударил голосом на «эт-то», так развернул в этом слове мучительную ту пружину, что вышло, должно быть, страшным простое «это»: серый солдатик шатнулся, как от удара.
Но Шмит был уж далеко: этот серый – не то. Шмит бежал туда, где работали, – к пороховому, где было много.
Только трех солдатиков нынче, вот, и не погнали на работы: в казарме дневального, у погреба – часового и красильщика, который патронные ящики красил.
А красил ящики не какой-нибудь дуролом, какой не знает и грунтовки положить, – красил ящики рядовой Муравей, своего дела мастер известный. Не то что-что, а даже когда спектакль ставили о запрошлом году: «Царь Максимьян и его непокорный сын Адольфа» – так даже для спектакля все рядовой Муравей расписывал. И он же, Муравей, на гармошке первый специалист: как он – страдательную сыграть никто не мог. Рядовой Муравей себе цену знал.
И, вот, стоял он маленький, чернявый, будто даже и не русский, стоял и душу свою тешил. Ящики-то зеленым помазать – это еще дело годит. А пока что, зеленью и подгрунтовкой белой, расписывал он на ящике вид: речка, как есть живая ихняя Мамура-речка, а над речкой – ветлы, а над ве…
– А-ах! – как гром разразила его сверху Шмитова рука.
– Т-ты красишь? Ты… красишь? Я… тебе… что… велел?
И еще что-то кричал Шмит – может, и не слова даже, очень даже просто, что не слова, – кричал и бил прислонившегося к зарядному ящику Муравья. Бил – и все больше хотелось бить: до крови, до стонов, до закатившихся глаз. Так же неудержно, как раньше хотелось без конца тоненькую Марусю подымать на руки, целовать – неудержно.
Со страху ли, или уж больно большим преступником видел себя Муравей, но только не кричал он. А Шмиту попритчилось тут упрямство. Нужно было одолеть, нужен был… нужен был – задыхался Шмит – нужен был крик, стон.
Шмит вытащил из кармана револьвер – и только тут Муравей заорал благим матом.
На поле за пороховым погребом услыхали. Размахивали руками, прыгали через канавы, неслись сюда черные фигуры. И впереди был Андрей Иваныч: он дежурил сегодня с солдатами.
Шмит поглядел на Андрея Иваныча, что-то хотел ему сказать, но уж близко дышали, запалились, бежавши, солдаты. Шмит махнул рукой и медленно пошел.
Солдаты стояли в кругу вкруг лежащего, вытягивали головы, долго никто не насмеливался подойти. Потом вылез, кряхтя, из середины неуклюже-степенный детина, присел на карачки к Муравью:
– Э-эх, сердешный, как он тебя, знычть, ловко оборудовал…
Андрей Иваныч узнал Аржаного. Аржаной приподнял голову Муравью и умело, как будто это не впервой ему, обматывал ситцевым платком.
«Да, это Аржаной, тот самый, что манзу убил. Тот самый…» – И задумался Андрей Иваныч.
17. Клуб ланцепупов
Все уж это знали, что Шмит совсем как бешеный бегает. И когда нежданно-негаданно вошел он в столовую собрания, все, как по команде, притихли, прижухли, даром что навеселе были.
– Ну, что ж вы, господа? О чем? – Шмит оперся о стол с тяжелой усмешкой.
Все сидели, а он стоял: вот это будто, самое неловкое и было, вертелись. Кто-то не вытерпел и вскочил:
– Мы… мы ане-анекдот…
– Ка-акой анекдот?
«…Какой?» Как нарочно, вылетели все из головы: какой же. «А вдруг он нюхом учует, что мы говорили о нем и…»
Выручил капитан Нечеса. Поковырял сизый свой нос и сказал:
– А мы… это, да, армянский – знаешь? Одын ходыт, другой ходыт… двэнадцатый ходыт, что такой?
Шмит почти улыбнулся:
– А-а, двэнадцатый ходыт? Стало быть, капитан-Нечесовы дети…
Все подхватили, загоготали облегченно:
«Что же, он даже и ничего вовсе, даже и шутит…»
Шмит обвел их всех острыми, железно-серыми глазами, каждого ощупал отдельно и сказал:
– Господа, а не осточертело вам здесь? Не пора ли чего-нибудь этакого похлеще? А? Не ахнуть ли нам в город, в ланцепуповский клубик, например? Чуть ли не с год ведь не были.
Шмит глядел, искал: «Поедут – не поедут? А вдруг – поедут, и мы там где-нибудь встретим Аза… Азанчеева? Вдруг – ведь может же…»
Публика оживилась.
– Теперь? Да ведь о полночь уж… С ума спятить! – всю ночь переть туда – ехать… Ветер, качать будет…
– Ну-с? Как же? – усмешкой хлестнул Шмит Андрея Иваныча, уперся в широкий Андрея-Иванычев лоб.
Андрей Иваныч вышел вперед и сказал, хотя и не знал даже толком, что за клуб такой ланцепупов, – сказал:
– Я еду.
Лиха беда начать, а там уж пойдет. Загалдели: «И я, и я!» Засуетились, застегивали шинели, пошли к берегу. Не поехал только Нечеса.
На воде был такой холодина, что все языки подвязались. Свистел, жуть нагонял ветер. Дремали, сидя. Без конца, всю ночь, колотилась головою волна о железный борт.
Подъезжали на рассвете. Медленно, презрительно, величаво выкатывалось из воды солнце. Сразу стало стыдно клевать носом, вскочили, глядели на непроснувшийся, розово-синий на горе город.
Растолкали на пристани китайцев-извозчиков и покатили гуськом на пяти дребезгливых подводах на самый край города.
На звонок дверь, как у Кощея во дворце, сама растворилась: людей не видать было. Шепотом, воровато вошли в приготовленную комнату, вида необычного, очень длинную: коридор, а не комната. У одной стены – узкий, весь в бутылках, стол. А насупротив, где окна – ничего: пусто, гладко.
Шмит налил полнехонек стакан рома, выпил, рука у него чуть дрожала, глаза узились и кололи.
– Ну, что ж, господа, жребий?
Кинули жребий. Выпал орел четверым: Шмиту, Молочке, Тихменю, Нестерову. Отчего-то розовость Молочкова мигом полиняла.
– Я бросаю! – крикнул Шмит и кинул за окно большой, весело сверкнувший золотой.
На раскрытом окне опущена и парусом вздувается штора. Стали у окна попарно – справа и слева, вынули револьверы, вытянулись, ждали. Резкий, кованый профиль Шмита, острый, выдвинутый вперед подбородок, закрытые глаза…
– Но зачем же они… – поднял было голову Андрей Иваныч: ничего не понимал.
На него цыкнули: притих. У всех были красные, дикие глаза, с прозеленью лица: может, от бессонной ночи. Вихрились какие-то несуразные обрывки слов в головах. Лили в себя спирт. Сердце – в нестерпимых, сладко-мучительных тисках.
Плыл вверх солнечный квадрат на белой занавеске. Все так же молча сидели. Не знал никто: час прошел, или два, или…
Шаги по тротуару под окном. Какая-то одинаковая у всех судорога – и четыре нестройных, вразброд, выстрела.
Вскочили, взбудораженно загалдели, все кинулись к окну. У самой стены лежал на спине в ватной синей кофте манза: нагнулся было за новеньким, золотым. Но поднять, должно быть, не успел.
Уж что было дальше, не видал Андрей Иваныч. От ночи ли бессонной, от винного ли дурмана, или еще от чего, но только сомлел он. Как стоял у окна, так тут же на пол и сел.
Очнулся: совсем близко над ним Шмитовы железно-серые глаза.
– Разве мыслимо? – Шмит встал с колен, выпрямился. – Офицер, как институтка, на кровь не может глядеть. Я всегда это говорю: офицер в мирное время должен учиться убивать…
Андрей Иваныч медленно поднимался с полу – шатнулся – схватился за Тихменя.
Тихмень взял его под руку, повел к выходу:
– Пойдемте, голубчик, пойдемте. Вам еще рано, погодите…
Вышли в маленький голый садик с почернелым забором, с печально-непокрытой землей. Только недавно еще вышло на небо солнце, а уж затягивался смертной пленкой тумана его зрак.
Тихмень сбросил фуражку, провел рукой по зализам своим, глянул вверх:
– Скверно. Все скверно. Так скверно! – сказал он скрипуче. Махнул рукой, и опять сидел молча, слишком длинный, непрочный. Полз ржавый, ржавящий, желтый туман.
– Хотя бы война какая, что ли… – буркнул в нос Тихмень.
– Хороши мы будем на войне!
Хотел это только сказать или сказал – и сам того не знал Андрей Иваныч: в голове колотилось, клочьями неслось стремглав, путалось.
18. Альянс
Пост великий, мокреть, теплынь. Чавкает под ногами грязь, – так чавкает, что вот-вот человека проглотит.
И глотает. Нету уж сил карачиться, сонный тонет человек и, засыпая, молит: «Ох, война бы, что ли… Пожар бы, запой бы уж, что ли…»
Чавкает грязь. Гиблые бродят люди по косе, в океан уходящей. Чертятся на черном вдалеке белые полосочки – корабли. Ах, не завернет ли какой-нибудь и сюда? С Великого поста ведь всегда заходить начинают. Вот, в прошлом году уж целых два в феврале зашли, – заверни, миленький, ах, заверни… Нет! Ну, так, может быть – завтра?
И завтра пришло. Как снег на голову, как веселый снег – свалились французы.
В тот час сидели на пристани Молочко и Тихмень, вспоминали клуб ланцепупов, глядели вдаль. Вдали дымок, и все ближе, все быстрее – и уж вот он, весь виден – крейсер, белый и ладный, как лебедь, и французский флаг. Тихмень оробел и наутек пустился. А Молочко остался, загарцевал, взыграл: он первым все узнает, он первым – встретит, он первым – расскажет!
– Я счастлив приветствовать вас на далекой, хотя и русской… то есть, на русской, хотя и далекой земле…
Вот как выразился Молочко: он лицом в грязь не ударит. Ведь у него француженка-гувернантка была…
Французский лейтенантик, которому сказана была Молочкова речь, не улыбнулся – сдержался:
– Наш адмирал просит разрешения осмотреть батарею и пост.
– Господи, да я… Я побегу, я – в момент, – и помчался Молочко.
Но к кому сунуться-то, к кому бежать? Никого из начальства нету, за старшого Нечеса остался. А Нечеса очень невразумителен бывает, коли не в пору его после обеда взбудить. Беда да и только!
– Капитан Нечеса, капитан… Вставайте же, французский адмирал приехал, желает пост осмотреть…
– Хрр… пфф… хрр… Ко-кого?
– Адмирал, говорю, французский!
– К ч-чертовой матери адмирала, спать хочу. Хрр… пфф…
Молочко стянул с капитана накинутый сверху китайский халат, крикнул Ломайлова:
– Ломайлов, квасу капитану!
Но Ломайлова нету: ушел нынче Ломайлов трубы чистить. Принесла квасу сама капитанша, Катюшка.
Капитан хлебнул, кой-какие слова стал понимать:
– Францу-узы? Да что они, спятили? Зачем?
– Капитан, поскорей, ради Бога! Ведь у нас с французами альянс… Ей-богу, нагорит!
– О, Господи, откуда? За что? Солдаты, солдаты-то каковы с работами этими генеральскими! Молочко, гони туда, к пороховому, в сей секунд. Всех чтобы, дьяволов, в лес угнали! Ни один чтобы с-собачий сын носу не показал!
И вот, капитан Нечеса стоит, наконец, на пристани, распахнута шинель, на мундире все регалии.
Главная спица в колеснице – Молочко – вертится, сверкает, переводит. Адмирал французский не первой уж молодости, а тонкий да ловкий, как в корсете. Вынул книжечку, любопытствует, записывает.
– А какие у вас порционы солдатам? Так, так. А лошадям? Сколько рот? А сколько прислуги на орудие? А-а, так!
Пошли всем кагалом в казармы. Там уж успели прибрать, почистить: ничего себе. Только дух очень русский стоит. Заторопились французы на вольный воздух.
– Ну, теперь их только к пороховому – и все, и слава Богу…
И оставался уж один до порохового квартал, как из дома поручика Нестерова вылез Ломайлов. Кончил трубы чистить, очень аккуратно все почистил, и в зале, и в спальне. Кончил – и шел себе до дому с метлой, в отрепьях – лохматая, черная образина.
Адмирал любопытно вскинул пенсне.
– А-а… А это кто же? – и повернулся к Молочке за ответом.
Молочко, утопая, взглядом – молил Нечесу, Нечеса свирепо-символически ворочал глазами.
– Это… э-это ланцепуп, ваше превосходительство! – вякнул Молочко, вякнул первое, что в голову взбрело. Говорили перед тем с Тихменем о ланцепупах, ну и…
– Lan-ce-poupe? Это… что ж это значит?
– Это… ме-местный инородец, ваше превосходительство.
Адмирал очень заинтересовался:
– Во-от как? Я и не слыхал такого наименования до сих пор, а этнографией очень интересуюсь…
– Недавно только открыты, ваше превосходительство.
Генерал записал в книжку:
– Lan-ce-poupe… Очень интересно, очень. Я сделаю доклад в Географическом обществе. Непременно…
Нечеса задыхался от нетерпенья узнать, что такое вышло и что за разговор странный – о ланцепупах.
А адмирал – час от часу не легче – уж новую загогулю загнул Молочке:
– Но… почему же я не вижу ваших солдат, ни одного?
– О-о-они, ваше превосходительство, в… в лесу.
– В лесу-у? Все? Гм, зачем же?
– Их, ваше превосходительство, ланце-ла-ланцепупы эти самые… То есть они все отправлены, наши солдаты, то есть, на усмирение, значит, ланцепупов…
– Ах, так это, значит – не совсем еще покоренный народец? Да у вас тут сюрпризы на каждом шагу!
«Сюрпризы! Какие, вот, от тебя еще будут сюрпризы? Заврусь, запутаюсь, погублю…» – Молочку уж цыганский пот со страху прошибал.
Но адмиралу было довольно и этих открытий. Ходил теперь – и только головою кивал: «Хорошо, очень хорошо, очень интересно». Ведь не каждый это день случается – открывать новые племена.
19. Мученики
И откуда только прыть взялась у такого человека губошлепого, как капитан Нечеса? Надо быть – с радости, что негаданно все так ловко сошло с французами. И затеял Нечеса устроить в собрании французам пир на весь мир.
Французы согласились: никак нельзя, альянс. И пошла писать губерния. В квартирах офицерских запахло бензином, денщики бросили все дела – наверчивали офицершам папильотки, а Ларька генеральский разносил приглашения.
Увидала Маруся, как Ларька в калитку к ним вкатился, так и заметалась, загорелась, забилась. Как на ладони, вот встал перед ней вечер тот проклятый: заря-лихоманка, семь крестов, они с Андрей Иванычем вдвоем, и Ларька подает письмо генеральское.
– Шмит, не пускай его, Шмит, не пускай, не надо!
В Шмите сжалась пружинка, затомила, заныла, запросила мук.
Шмит усмехнулся:
– Не мочь – надо раньше было. А теперь уж моги, – нарочно открыл дверь из столовой и крикнул в кухню: – Эй, кто там, давай-ка сюда!
Ларькино имя все же не смог Шмит назвать. Ларька вкатился медно-сияющий, подал билетец, рассказывал:
– И хлопот же, и хлопот с французами этими, беда!
Заставил себя Шмит, расспрашивал нарочно, выдавил даже улыбку. И Ларька вдруг насмелился:
– А что, ваше-скородие, осмелюсь спросить: французы водки-то принимают, али как? А то ведь, что ж мы с ними…
И даже засмеялся Шмит. Засмеялся – и звенит все выше, на самых высоких верхах звенит, не сорваться бы…
А Маруся – у окна, к Ларьке спиной, – уйти не посмела, – стоит и плечики худенькие ходуном ходят. Видит Шмит – и смеяться перестать не может, все выше звенит, все выше…
Одни. Кинулась к Шмиту, на холодный пол перед ним, протянула руки:
– Шмит, но ведь я же для тебя… для тебя то сделала. Ведь мне же было ужасно, отвратительно, – ведь ты веришь?
Шмита свело судорогой-улыбкой:
– И в сотый раз скажу: значит – было не достаточно мерзко, не достаточно отвратительно. Значит, жалость ко мне была сильнее, чем любовь ко мне…
И не знает Маруся, что сделать, чтобы он… Туго заплетены пальцы… Господи, что же сделать, если у нее – любовь, а у него – ум, и ничего не скажешь, не придумаешь. Но неужели же он сам верит в то, что говорит? Ах, ничего, ничего не понять! Заковался, замкнулся, не он стал, не Шмит…
Маруся встала с холодного пола, тихо ушла в зал. Пугали и томили темные углы. Но не так, как раньше: не Бука лохматый мерещился, не Полудушка – веселый сумасшедший, не Враг – прыгучий нечистый, – мерещилось Шмитово чужое, непонятное лицо.
Зажгла одну лампу на столе; влезла на стул, зажгла стенную. Но стало только еще больше похоже на тот вечер: тогда тоже ходила одна и зажигала все лампы.
Потушила, пошла в спальню. «У Шмита – все носки в дырьях, а я целый месяц все только собираюсь… Не распускаться, нельзя распускаться».
Села, нагнулась, штопала. Досадливо вытирала глаза: все набегало на них, застило, работы было не видать. Было уж поздно – о полночь, когда кончила всю штопку. Выдвинула ящик, укладывала, на комоде трепетала свеча.
Пришел Шмит. Тяжкий, высокий, мерял спальню взад и вперед, скрипел пол. Пружинка та самая билась внутри, мучила и мук искала.
Бросил камень Марусе:
– Ложись, пора.
Она разделась, покорная, маленькая. В рубашке – совсем, как дитенок: такая тонкая, такие ручки худенькие. Только две эти старушечьих морщинки по углам губ…
Подошел Шмит, дышал, как запаленный зверь. Маруся, с закрытыми глазами, лежа, сказала:
– Шмит, но ведь… Шмит… ты любишь ведь? Ты ведь это хочешь – не так, не просто, как…
– Любить? Я любил…
Шмит задохнулся. «Марусенька, Марусенька, ведь я умираю. Марусенька, родная, спаси!» Но вслух сказал он:
– Но ведь ты продолжаешь уверять, что меня любишь, хм! Ну, и довольно с тебя. А я… просто хочу.
«Нет, это он так, притворяется… Было бы ужасно…»
– Шмит, не надо, не надо же, ради-ради…
Но со Шмитом совладать ей разве? Измял всю, скрутил, силком заставил. Мучительно, смертно-сладко было терзать ее, дитенка худенького, милого, ее – такую чистую, такую виноватую, такую любимую…
Так унизительно, так больно было Марусе, что последний, самый отчаянный не вырвался, а ушел крик вглубь, задушенный, пронизал злой болью. И на минуту, на секунду одну озарил далекий сполох: поняла на секунду Шмитову великую злобу, сестру великой…
Но Шмит уж уходил. Ушел в гостиную – там спать. А может, и не спать, а ходить всю ночь напролет и глядеть в синие, совиноглазые окна.
Лежала Маруся одна, во тьме, в пустоте. Исходила слезами неисходными.
«Он сказал: вы великая, – вспомнила Андрея Иваныча. – Какая же великая: жалкая, стыдная. Если б он знал все, не сказал бы…»
Как знать.
20. Пир на весь мир
Музыка: пять горнистов-солдат и рядовой Муравей с гармошкой. Эх, музыка, вот, и подкузьмила малость, а то бы – совсем хорошо. На стенах ветки зеленые, флажки трепыхаются. Лампы от усердия прикапчивают даже. На парадных шарфах серебро светит. На барынях брякают брошки, браслеты бабушкины заветные. И не лучше ли всего розово-сияющий распорядитель Молочко?
Но Тихмень на все глядел скептично – был он еще совершенно трезв:
«Все это, конечно, ложь. Но это блестит, да. А так как единственная истина – смерть, и так как я еще живу, то и надо жить ложью, поверхностно. Значит, правы Молочки, и надо быть пустоголовым… Но практически? Ах, я сегодня что-то путаю…»
Мимо Тихменя на музыкантов ринулся Молочко:
– Туш, туш! «Двуглавый Орел»! Идут, идут…
Музыка заверещала, задудела, дамы поднялись на цыпочках. Вошли французы – все затянутые, надушенные, поджарые, ладные во всех статьях.
Тихмень сперва рот разинул вместе со всеми на минутку. Потом выделил, обмыслил: французы – и наши. Знакомые залосненные наши сюртуки, оробелые лица, перекрашенные платья дам…
«Да… И вот, если ложь окажется еще один раз лжива… Ну да, эн квадрат, минус на минус – плюс… Практически, следовательно… Да, что бишь? Я путаюсь, путаюсь…»
– Слушьте-ка, Половец, – дернул Тихмень Андрея Иваныча, – пойдемте пока что по одной тюкнем: тошнехонько чтой-то…
Да, и Андрею Иванычу было нужно выпить. Хлопнули по одной. В буфетной голошил коньяк Нечеса – для храбрости: как-никак – он ведь за главного.
– Шмит-то нынче веселый какой, у-у! – пробурчал Нечеса сквозь мокрые усы.
– Как, разве тут Шмит? – Андрей Иваныч кинулся обратно в зал.
Затомила в сердце горько-сладкая томь: не Шмита искал он, нет… Проплывали мимо французы – в легчайшем пухе вальса мелькнул потный и красный от счастья Молочко.
«Наврал Нечеса – и к чему? Нет ее. Никого нету…»
И вдруг – громкий, звенящий железом смех Шмита. Кинулся туда. Вихрились, кружились, толкали пары; казалось, не добраться.
Шмит и Маруся стояли с французским адмиралом. Шмит поглядел сквозь Андрея Иваныча – сквозь пустой стакан, выпитый весь до дна.
У Андрея Иваныча глаза заволокло туманом, он быстро повернулся от Шмита к Марусе, взял тоненькую ее ручку, держал, – ах, если бы было можно не отпускать! «Но почему же дрожит, да, конечно – дрожит у ней рука».
По-французски через пень-колоду понимал Андрей Иваныч, вслушался.
– …Жаль, нет генерала, – говорил Шмит, – удивительнейший человек. Вот моя жена – большая почитательница генерала. Я положительно ревную. В одно прекрасное время она может…
Французы улыбались, Шмитов голос звенел и стегал. Маруся стала вся – как березка плакучая – долу клониться. И упала бы, может, но учуял Андрей Иваныч – один он и увидел – поддержал Марусю за талию.
– Вальс, – шепнул он, не слыхал ответа, унес ее легкими кругами. «Подальше от Шмита – проклятого, подальше… О, до чего ж он…»
– Как он мучит меня… Андрей Иваныч, если бы вы знали! Вот эти три дня, и сегодня. И три ночи перед балом…
Показалось Андрею Иванычу, говорила Маруся откуда-то снизу, из глубины, засыпанная. Взглянул: эти две морщинки, похоронные около губ – о, эти морщинки…
Сели. Маруся смотрела на кенкет, глаз не отрывала от пляшущего, злого пламенного языка: оторвать, отвести глаза – и все кончено, и плотину прорвет, и хлынет…
В вальсе Шмит подходил к ним. Маруся, улыбаясь – ведь на них глядел Шмит – улыбаясь, сказала чужие, дикие слова:
– Убейте его, убейте Шмита. Чем такой… пусть лучше мертвый, я не могу…
– Убить? Вы? – поглядел Андрей Иваныч, не веря, в ужасе.
Да, она. Паутинка – и смерть. Вальс – и убейте…
Шмит крутился с кругленькой капитаншей Нечесой, крутился упругий, резкий, скрипел под ним пол. Сузил глаза, усмехался.
Андрей Иваныч ответил Марусе:
– Хорошо.
И со стиснутыми зубами повлек, опять закружил – ах, до смерти бы закружиться…
Тут, впрочем, не от вальсов больше головы кружились, а от выпитых зельев. В кои-то веки, с французами, за альянс-то, да и не выпить? Это бы уж – последнее дело.
Пили и французы, да как-то по-хитрому: пили – а душой, вот, не воспринимали. Да и пили больше полрюмки, и смотреть-то нехорошо. То ли дело – наши: на совесть, по-русски, нараспашку. Сразу видать, что пили: соловые ходят, развеселые, мутноглазые.
Вот уж когда чуял Тихмень свой рост: страсть это неудобно высокому быть. Маленькому, если и качнуться – оно ничего. А высокий – колокольня – выгибается, вот-вот ухнется, страшно глядеть.
Зато, прислонившись к стенке, Тихмень почувствовал себя очень прочным, сильным и смелым. И потому, когда, пошатываясь, шел мимо Нечеса, Тихмень решительно ухватил его за полу. «Нет, уж, теперь баста, теперь я спрошу…»
– Капит-тан, скажи ты мне по с-совести, ну, ради Господа самого: чей Петяшка сын? С тоски – понимаешь, с то-ски! – помираю; мой Петяшка или, вот, не мой…
Капитан был нарезавшись здорово, однако – что-то тут неладно – понял:
– Да ты… да ты, брат, это про что, а?
– Гол-лубчик, скажи-и! – Тихмень тихо и горько заплакал. – Последняя ты у меня надежда, хм! хм! – хлюпал Тихмень. – Я Катюшу спросил, она не знает… Господи, что ж мне теперь де-елать? Голубчик, скажи, ты знаешь ведь…
Тупо глядел Нечеса на качавшийся у самых его глаз Тихменев нос, с слезинкой на кончике, – так бы, вот, взял и поправил.
Влекомый высшей силой, Нечеса крепко взял двумя пальцами Тихменев нос и начал его водить вправо и влево. И столь это было для Тихменя сюрпризом, что перестал он хныкать и покорно, даже с некоторым любопытством, следовал за капитановой рукой.
И уж только когда услышал сзади крики: «Тихмень-то, Тихмень-то», – понял и рванулся. Кругом все хватались за животы.
Тихмень обвел их остолбенелым взглядом, на ком-то остановился – это был Молочко, – и спросил:
– Ты, в‑вот, ты видал? Он меня… он водил меня за нос?
Лопнули со смеха. Молочко еле выговорил:
– Ну, брат, кто кого водил за нос, это, в конце концов, неизвестно.
Все кругом ахнули. Теперь нужно было Тихменю что-то сделать. Нехотя, исполняя обязанность, полез Тихмень на капитана.
И тут совсем уж несуразное пошло: Нечеса брюхом лежал на Тихмене и молотил его, куда попало. Кто растаскивал лежащих, а кто тащил этих, которые растаскивали: дайте, мол, им додраться, не мешайте. И если бы не капитанша Нечеса, Бог знает, чем бы катавасия кончилась.
Капитанша подбежала, крикнула, топнула:
– Ты, чурбан, дурак. Сейчас слезь.
Десять лет этого голоса капитан слушался: моментально слез. Лохматый, встрепанный, сконфуженный – додраться не дали – стоял и очесывался.
Французы собрались в углу, дивились и думали: уйти или нет? И уйти нельзя: альянс. И остаться неловко: видимо, у русских пошло дело домашнее.
– Все-таки… До чего ж они все… ланцепупы какие-то, – поднял вверх брови адмирал. – Из-за чего это у них?
Подозвали Молочко. Молочко пытался объяснить:
– Из-за сына. Чей сын, ваше превосходительство…
– Ничего не понимаю, – повел адмирал плечами.







