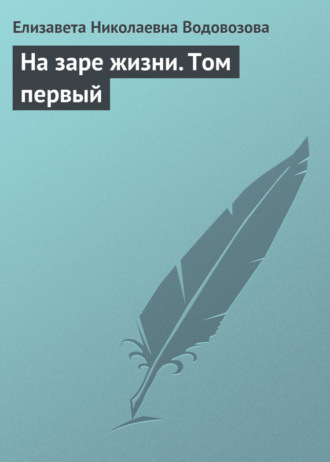
Елизавета Водовозова
На заре жизни. Том первый
Несколько успокоенная, я отправилась в дортуар, где подруги рассказали мне, как Тюфяева, возвратившись в класс, заметила, что меня не было у доски, как она несколько раз прочитала мое послание к ней и объявила, что она сейчас же отправляется к начальнице доложить обо всем происшедшем.
Когда воспитанницы ушли в столовую пить чай, я опять направилась к инспектрисе. Наконец возвратилась и горничная. Когда она, по ее словам, подъехала к подъезду квартиры, занимаемой моим дядею, он садился в карету, чтобы ехать куда-то. Он взял письмо и пошел с ним наверх к себе. Когда он опять вышел на подъезд, то приказал горничной передать инспектрисе о том, что он едет к начальнице, а затем явится к ней. При этом он закричал кучеру: «Гони!»
Я целую вечность, как мне показалось, бродила по коридору, поджидая дядю. Наконец я увидала, что он поднимается наверх.
– Это что за грязная история? – строго спросил он меня, точно я была в ней виновата.
– Дядюшечка, дорогой! Пожалуйста, тише… Нас могут услышать… – И я быстро передала ему все, как было дело.
– Знаешь ли ты, глупая, что твои бабы могли меня скомпрометировать очень серьезно. Нет, этого я им не спущу! – И, нагибаясь к моему уху, он прибавил: – Твоей начальницей уже наступил на хвост… повизжит! Просто идол какой-то!.. Эту египетскую мумию в музей надо, а не двумя институтами управлять!.. – И он начал хохотать так, что все его грузное тело сотрясалось.
Дядюшкин смех был услышан в комнатах инспектрисы, и к нам выскочила горничная, вероятно для того, чтобы посмотреть, кто пришел. Я потянула дядю за руку, и мы вошли. При нашем появлении maman поднялась и, протягивая руку дяде, начала говорить о том, как она рада, что он поторопился приехать. Вероятно, теперь выяснится этот прискорбный случай, который…
Дядя более привык командовать полком, кричать, распоряжаться, чем вести светскую беседу. К тому же, он был взбешен всем этим делом.
– Это не прискорбный случай, сударыня, а прямо, можно сказать… грязь! Я уже предупредил начальнику Леонтьеву, а теперь честь имею доложить вам, что буду считать долгом… священным долгом довести все это до государя императора. Моя жена – почтенная мать семейства, самое миролюбивое существо, но и она пришла в негодование, прочитав письмо племянницы. Она говорит, что порядочная воспитательница, заподозрив девочку в таком преступлении, не должна была обмолвиться ей об этом ни единым словом, даже виду не показать, а обязана была моментально написать мне, ее дяде, и сообщить о подозрениях, закравшихся у нее, требовать у меня объяснения относительно молодых людей, посетивших девочку. Но госпожа Тюфяева поступила как раз наоборот: с места в карьер она набросилась на мою племянницу и начала уличать ее в преступлении. А знаете ли, сударыня, какие бы последствия могло иметь это дельце? Оно наделало бы много шуму в городе, меня оно обрызгало бы грязью, а ее женская честь была бы навек загублена!.. В царствование императрицы Елизаветы Петровны – мудрейшая была государыня! – такой особе, как госпожа Тюфяева, отрезали бы язык…
– Генерал, генерал, ваше превосходительство! У нас не принято при воспитанницах так отзываться об их воспитательницах!
Вдруг дядюшка быстро и сердито обратился в мою сторону и закричал на меня во все горло:
– Как ты смеешь, постреленок, тут торчать? Смей у меня не уважать начальство!
Я как ошпаренная выскочила в другую комнату, но ничего не потеряла из интересного для меня разговора. Голос дядюшки раздавался на всю квартиру.
– Но чем же я виновата в этой истории? Я умоляла mademoiselle Тюфяеву не докладывать о ней начальнице, по крайней мере, несколько дней, но все было напрасно…
– Вы, сударыня, могу вас уверить, вы во всем виноваты. Разве можно держать таких недостойных воспитательниц? Вы – начальница этого заведения, и вдруг позволяете подчиненной сесть себе на голову! Вы должны держать подчиненных в ежовых рукавицах, чтобы они и пикнуть не смели, а вы их распустили! Это большое преступление! Вы извините меня, сударыня, я простой русский солдат, много раз бывал под градом неприятельских пуль, верою и правдою служу моему обожаемому монарху и правду-матку привык резать в глаза… Правда, я человек горячего характера, но ведь эта история может взорвать хоть кого! – Но тут он начал смягчаться, подробно рассказал, как сегодня приехал мой старший брат, как он дал ему карету, чтобы тот вместе с своим младшим братом навестил меня, как они быстро возвратились и т. д. – Верьте, сударыня, я отношусь к вам с чувством глубочайшего уважения и обвиняю вас только в излишней слабости и попустительстве… Для меня несомненно, что все это произошло от вашей ангельской доброты.
Инспектриса, несмотря на свою слабохарактерность, все-таки не позволила бы наговорить всего того, что ей пришлось выслушать, но ее, как она мне сама сознавалась уже после моего выпуска, вынуждал к этому страх, что крутой и шумливый генерал, чего доброго, действительно доведет до сведения государя эту историю и что в таком случае она наделает много неприятностей институтскому начальству. Как только она могла прервать поток горячих речей моего дядюшки, она начала высказывать ему, что вполне понимает справедливость его негодования, и уже по тому, как он горячо принял к сердцу интересы своей племянницы, она видит, какою возвышенною, благородною душою он обладает.
Дядюшка не всегда мог устоять перед лестью. Он вскочил с своего места, протянул руку и с чувством произнес:
– Как же иначе? Моя племянница – дочь моей родной сестры, сирота, я единственный ее защитник и покровитель! Но вы сами, сударыня, как я уже тысячу раз говорил племяннице, чудная, святая женщина… она должна питать к вам только благоговение и восторг, а вот начальница Леонтьева… простите… того… н-да…
Инспектриса, видимо, до смерти перепугалась, что такой невоздержанный на язык человек, каким был мой дядя, может и относительно начальницы высказать что-нибудь неподходящее здесь, где даже стены должны были слышать по отношению к ней лишь славословия, а потому живо перебила его.
– Я вас прошу, генерал, самый великодушный, самый лучший из всех генералов: не доводите этой истории до государя… Убедительно прошу вас об этом! Ну для чего вам это? Дайте же мне честное слово, что все это останется между нами.
– Мне самому приятнее миролюбиво покончить с этой историей… Но я дам вам честное слово не беспокоить ею государя только в том случае, если вы поручитесь мне, что госпожа Тюфяева за свою же вину не устроит ада бедной девочке.
– О, это я беру уже на себя! – воскликнула инспектриса.
Я ожидала, что при этом удобном случае она сообщит дяде о моем дурном поведении вообще, но она тут, как и всегда, проявила доброту и не упомянула даже о моей «отчаянности». Вообще наша инспектриса бывала даже великодушна, если только обстоятельства в ее тяжелом положении не заставляли ее действовать вопреки ее природным склонностям.
Когда дядя попросил ее позвать меня, я моментально прошмыгнула через коридорчик на площадку к окну и приковала к нему свой взор, дабы удалить всякое подозрение насчет того, что я слышала разговор. Когда я вошла, дядя встал со стула, подошел ко мне и, грозно размахивая перед моим носом своими двумя пальцами, произнес с адскою суровостью наставление в виде целой речи, по обыкновению не заботясь в ней ни о последовательности, ни о логике, а нередко пренебрегая даже здравым смыслом.
– Я требую от тебя прежде всего полного и безусловного повиновения начальству. Ты должна любить его, уважать всем сердцем, всем помышлением, молиться ежедневно за него богу, точно так же, конечно, и за mademoiselle Тюфяеву. Как ты думаешь, зачем все это она сделала? Ей было приятно, что ли, поднять всю эту истерию? Сделала она это, милый друг, для того, чтобы блюсти за твоей нравственностью! Но если в твою головенку когда-нибудь заползет дикое и пошлое желание на самом деле поцеловать чужого мужчину, в чем тебя заподозрила mademoiselle Тюфяева, потому что у тебя чертики бегают в глазах… берегись! Тогда… тебя не придется и исключать из института… О нет, я этого не допущу! Понимаешь ли ты… я этого никогда не допущу! (При этом он страшно расширил глаза.) Я в ту же минуту явлюсь сюда и своими руками… своими собственными руками оторву тебе голову… задушу… убью!
Все это он говорил уже с кровожадно-свирепым выражением лица, наглядно показывая руками все степени казни, которые я должна буду испытать.
Когда мы выходили с ним из коридорчика, какая-то фигура быстро промелькнула мимо нас и скрылась. Я догадалась, что то была Ратманова, подслушивавшая и подглядывавшая за всем, что происходило у инспектрисы.
Я вошла в дортуар, – все уже были в постелях. Ратманова с хохотом высвободилась из-под одеяла, совершенно одетая, и забросала меня вопросами; остальные приподнялись с постелей и тоже торопили меня рассказывать им подробно и по порядку все, что было. Но я совсем не была расположена к болтовне и отвечала им вяло и неохотно, что удивляло подруг, находивших, что я должна была бы иметь торжествующий и ликующий вид. Испуг, державший меня столько часов в напряженном ожидании неминуемой беды, и сознание, что только счастливый случай помог мне выкарабкаться из нее в первый раз в жизни, во всем потрясающем ужасе показал мне все мое ничтожество перед грозной силой нашего начальства, которое завтра же может сделать со мною все, что угодно. Я бросилась в постель и, уткнувшись в подушку, горько рыдала. Вероятно, те же мысли пришли. в голову и моим подругам: всхлипывание, сморкание и откашливание раздавались со всех сторон… Только Ратманова, менее всех поддававшаяся чувствительности, громко изрыгала самую отборную брань по адресу классных дам вообще и Тюфяевой в особенности.
На другой день инспектриса отправилась к начальнице. Как и что они при этом обсуждали, для нас осталось неизвестным; не узнали мы и того, о чем разговаривала инспектриса с Тюфяевой, которую она на этот раз продержала у себя очень долго, но, вероятно, последняя не получила для себя ничего утешительного: несколько дней после этого события ее физиономия выражала какую-то пришибленность, и она сидела в классе совсем тихо, безучастно относясь даже к тому, что воспитанницы шумели в неурочное время. Во всяком случае, роль добровольного полицейского, которую эта истинная злопыхательница исполняла так усердно, была временно приостановлена. Ко мне она совсем не придиралась более, даже не произносила моего имени.
Что же касается инспектрисы, то, вежливая и ласковая со всеми, она стала относиться ко мне с особенным вниманием. Однажды она заявила мне, что просит меня приходить к ней в послеобеденное время всегда, когда я буду свободна от уроков. В такие вечера она заставляла меня читать вслух Вальтер Скотта во французском переводе, объясняла все для меня непонятное, расспрашивала о членах моей семьи. Эти два-три месяца, когда я по разу, по два в неделю приходила к ней по вечерам, были самым светлым воспоминанием во всей моей институтской жизни дореформенного периода. С материнским участием и лаской она как-то просила меня объяснить ей, почему до сих пор я была «отчаянной», почему только в самые последние недели на меня перестали жаловаться классные дамы.
– Мне кажется, – говорила она, – ты просто напускаешь на себя эту отчаянность!.. Я сама заставала тебя после твоих «отчаянных выходок», когда ты положительно имела вид d'une personne arrogante…[56]
– Потому что я ни от кого не слыхала здесь доброго слова!.. Вы говорите, maman, что за последнее время на меня не жалуются… Когда я стала к вам приходить… вы так добры ко мне… я сама чувствую, что теперь злость моя начинает проходить…
М-те Сент-Илер громко рассмеялась, я сконфузилась, но не понимала всей наивности моего признания. Я не умела лучше сформулировать то, что как-то неопределенно бродило в моей голове. Только гораздо позже я могла бы ответить ей, что весь строй нашей жизни, с ее казенщиной и формализмом, представлял стоячее болото, которое могло выращивать только болотные растения. Не имея книг для чтения, ничего не извлекая из преподавания для развития ума, лишенные человеческого руководительства наставниц, воспитанницы не могли укрепляться в добрых чувствах, у них росло лишь раздражение, развинчивались нервы, вырабатывались индифферентизм ко всему и рабские чувства или отчаянная грубость.
– Убедительно прошу тебя, мое дитя, попробуй быть менее дерзкой, уверяю тебя, и классные дамы будут тогда к тебе более снисходительны.
Какою любовью, каким восторженным обожанием забилось мое сердце от этих непривычных для меня добрых слов!
– О, maman! Вы – святая! – вскричала я в исступленном восторге. – Я не стою поцеловать вашу руку. – И я в экстазе упала перед ней на колени и поцеловала край ее платья.
– Ах ты, восторженная головушка! – кинула мне maman, и я, переконфуженная от сказанного, бросилась бежать из ее комнаты.
Вскоре после описанных происшествий все обстоятельства институтской жизни начали влиять на ослабление моей отчаянности, задора и воинственности. Этому прежде всего помогало то, что мы перешли в так называемый выпускной класс, где наши воспитательницы уже менее придирались и реже наказывали воспитанниц. Кроме того, «выпускные» пользовались некоторыми привилегиями: в послеобеденное время до чая классные дамы иногда уходили в свою комнату и оставляли нас одних в классе, а иной раз приказывали даже без них спускаться в столовую. Моему умиротворению содействовало и сердечное отношение ко мне инспектрисы, отсутствие придирок со стороны Тюфяевой, а главное – то, что инспектором классов к нам был назначен Ушинский; но о нем я буду говорить ниже.
Когда однажды я возвратилась от m-me Сент-Илер ранее обыкновенного, Ратманова встретила меня язвительными словами:
– Ты ловко обделываешь свои делишки! Ничего что «отчаянная», а сумела приобрести благоволение инспектрисы!
Я была поражена и растерянно переводила глаза с одной подруги на другую.
– Хотя madame Сент-Илер и начальство, но она чудная, святая женщина, – проговорила я наконец. – Я не считаю подлостью ее посещать! Она не из тех, которые выспрашивают о том, что делается в классе. Кажется, я еще никому из вас не навредила!
– Никто не обвиняет тебя в этом, никто не сомневается и в том, что инспектриса не станет у тебя выпытывать что бы то ни было, но не все придерживаются твоего мнения, что она святая женщина!.. Пожалуй, все, кого бы она пригласила к себе, стали бы к ней бегать… Но едва ли это следует делать! – Так говорила Бринкен, бесспорно самая умная из всех моих подруг.
Эти слова смутили меня гораздо более, чем обвинение Ратмановой.
– Но почему же, почему? – растерянно спрашивала я ее.
– Просто потому, – отвечала она, – чем дальше от начальства, тем лучше…
– Чудная, святая женщина! – передразнивала меня Ратманова. – Мы голодаем, а эта чудная, святая женщина не может и слова сказать эконому, чтобы он не обкрадывал нас… Классные дамы жалуются на нас, – она всегда принимает их сторону, а не нашу… Давно ли она советовала тебе стать на колени перед Тюфяевой, превосходно сознавая, что та тебя оклеветала!..
Но тут кто-то из наших вбежал к нам и закричал:
– Чего вы не спускаетесь в столовую? Уже давно звонили… Будут попрекать, что вы без классной дамы и шагу не умеете ступить!
Все бросились в пары, и мы понеслись с лестницы. Я машинально бежала за другими, но про себя обдумывала только что происшедший разговор. «Да, они правы, тысячу раз правы! – твердила я себе. – Что сделала полезного для нас инспектриса? Только что не груба! А я уже и в восторг пришла от ее святости!» Но вдруг я оступилась и полетела вниз с лестницы: на одном из ее поворотов я задержалась было, но сзади бегом спускавшиеся воспитанницы нечаянно толкнули меня, и я уже без всяких задержек полетела вниз, пока не упала на пол, недалеко от дверей столовой. Когда подруги подняли меня, я была в сознании, только сноп кровавых точек мелькал перед моими глазами. Я постояла с минуту и, не чувствуя никакой боли, вошла с другими в столовую. Скоро я совершенно успокоилась, а когда мы пришли в дортуар и улеглись спать, я тотчас уснула. Ночью я проснулась от боли в груди и от лихорадки, укрылась салопом, в надежде как-нибудь оправдаться перед дортуарной дамой, но меня никто не тревожил. Когда прозвонил колокол и наши начали вставать, я объявила им, что у меня кружится голова, и я не могу приподнять ее от подушки. Наконец мне удалось привстать, но приступ жестокой лихорадки так сковал мои члены, голова так кружилась, что я не могла шевельнуться. Мне помогали вставать подруги; то одна, то другая из них, указывала на то, что шея и грудь у меня распухли и покрылись кровоподтеками; они потолковали между собой по этому поводу и единогласно пришли к мысли, что при таком положении для меня немыслимо идти в лазарет: перед доктором придется обнажить грудь, и этим я не только опозорю себя, но и весь выпускной класс. Это обстоятельство, рассуждали они, должно заставить каждую порядочную девушку вынести всевозможные мучения скорее, чем идти в лазарет. То одна, то другая задавала мне вопрос: неужели у меня не хватит твердости характера вынести боль? Я, конечно, вполне разделяла мнение и взгляды моих подруг на вопросы чести, но не могла им отвечать как от головокружения, так и от смертельной обиды на них за то, что они могут сомневаться во мне по такому элементарному вопросу, как честь девушки. Я решила, что к такому дурному мнению обо мне они пришли только потому, что я посещала инспектрису. Все это я высказала им в отрывочных фразах, проливая потоки слез и от обиды, и еще более от мучительной боли в груди. Подруги успокаивали меня, просили не волноваться, чтобы сохранить силу мужественнее вынести несчастие, ниспосланное мне судьбою. Когда я оделась с их помощью и зашаталась, они заботливо поддерживали меня со всех сторон, давали нюхать одеколон, смачивали виски. На этот раз забота обо мне подруг, не склонных вообще задумываться над несчастием друг друга, была поистине трогательна. Когда мы вошли в класс, они, посоветовавшись между собой, подошли к дежурной даме и просили ее позволить мне сидеть в пелеринке во время всех уроков. «У нее кашель, – говорили они ей, – но она не желает из-за таких пустяков идти в лазарет и пропускать урок». Та согласилась на это. Но полотняная пелеринка мало защищала от холода, и я вся тряслась от лихорадки; тогда воспитанницы собрали платки, укутали ими мои ноги и колени, даже обмотали мои руки, советуя не поднимать их из-под пюпитра.
Я сидела и ходила, как автомат, но как только от боли у меня вырывался стон, подруги шаркали ногами и кашляли, чтобы заглушить его, умоляя меня воздерживаться от стонов. У меня пропал аппетит, и они по-братски поделили мою порцию во время завтрака и обеда.
Когда на другой день я опять после бессонной ночи встала с постели с еще более значительною опухолью на шее и груди и двигалась еще с большим трудом, они решили, что это произошло оттого, что я накануне ничего не ела, и что они должны заставлять меня есть. Я понимала, что я в их власти, и не имела силы ни сопротивляться, ни говорить, а потому делала усилия и ела, как они этого требовали. Но когда мы пришли в класс после обеда, меня стало так тошнить, что подруги насилу вытащили меня в коридор к крану, где можно было скрыть последствия тошноты, и принялись обливать холодной водой мою несчастную голову, горевшую как в огне. Всю последующую ночь то одна, то другая подруга подбегала к моей постели, укрывала меня, клала намоченное полотенце на мой горячий лоб, но мне становилось все хуже. На третий день утром я заявила им, что не могу встать. Хотя то одна, то другая из них, осматривая меня, вскрикивала: «У нее еще более распухла грудь и посинела шея!» – тем не менее было решено, что мне нужно встать и отправиться в класс. Общими усилиями они одевали и обували меня в постели, уговаривали не терять мужества, и это заставило меня встать, хотя и с их помощью. Но они сами убедились, что вести меня вниз по лестнице невозможно, а потому решили скрыть меня и, когда все отправятся в столовую, оставить при мне одну из подруг.
У нас не было обычая пересчитывать воспитанниц; к тому же, во время чая на столе не стояло приборов, а потому скрыть отсутствие одной-двух воспитанниц было нетрудно. Когда наши возвратились в класс, моя сторожиха стащила меня туда же и усадила на скамейку, а другие подошли к дежурной даме просить ее о дозволении для меня сидеть на уроках в пелеринке. Но та отвечала, что так как с тою же просьбою они уже обращались к ней третьего дня, то она убеждена, что это какой-нибудь фокус, а потому и приказала мне подойти к ней. Я встала, но, сделав несколько шагов, упала без чувств.
Когда я пришла в сознание, я лежала в отдельной комнате лазарета, предназначенной для труднобольных. В ту минуту в ней толпилось несколько человек: инспектриса, лазаретная дама, сиделка и трое мужчин, из которых я узнала только одного нашего доктора. Кто-то незнакомый мне, наклонившись надо мной, просил меня назвать мое имя, отчество и фамилию; я исполнила его желание, и только позже мне стало известно, что этот вопрос был задан с целью узнать, в порядке ли мои умственные способности. На его вопрос, сколько времени я нахожусь в лазарете, я отвечала:
– Часа два-три.
– Вы лежите в лазарете одиннадцать дней, пролежали все время в бреду, и вам только что сделана операция. Старайтесь побольше спать и есть.
Прошло уже около двух месяцев, как меня принесли в лазарет, а я была так слаба, что не могла сидеть и в постели. Тупое равнодушие овладело мною в такой степени, что мне не приходила даже в голову мысль о том позоре, которому я, по институтским понятиям, подвергала себя при ежедневных перевязках, когда доктора обнажали мою грудь; не терзалась я и беспокойством о том, как должны были краснеть за меня подруги. Кстати замечу, что, по тогдашнему способу лечения, мою рану не заживляли более двух месяцев, и я носила фонтанель[57].. Но вот наконец, когда однажды я почувствовала себя несколько бодрее, доктор, делавший операцию, сел у моей кровати и начал расспрашивать меня о том, почему я не тотчас после падения с лестницы явилась в лазарет. Когда он несколько раз повторил свой вопрос, я отвечала:
– Просто так.
– Немыслимо, чтобы вы без серьезной причины решились выносить такие страдания!
– Я вам отвечу за нее, профессор… Я ведь знаю все их секреты! Хотя никто не сообщал мне, но я не сомневаюсь в том, что ее подруги и она сама считают позором обнажить грудь перед доктором, – вот милые подруженьки, вероятно, и уговаривали ее не ходить в лазарет.
– Однако этот институт – презловредное учреждение. – И, обращаясь ко мне, профессор добавил: – Понимаете ли вы, что из-за вашей пошлой конфузливости вы были на краю могилы?
Это меня жестоко возмутило. Когда доктор, проводив профессора, подошел ко мне, я со злостью сказала ему:
– Передайте вашему профессоришке, что, несмотря на его гениальность, он все-таки тупица, если не понимает того, что каждая порядочная девушка на моем месте поступила бы точно так же, как и я… Покорнейше прошу сказать ему также, чтобы он не смел более называть меня девочкой… Еще должна вам заявить, что перевязок я более не позволю делать… Вы могли их делать до сих пор только потому, что я отупела во время болезни…
Несмотря на усовещивания инспектрисы, до сведения которой было немедленно доведено мое намерение, я оставалась твердой и непоколебимой. На другой день с одной стороны к моей кровати подошел наш доктор, с другой – профессор. В ту минуту, когда я приподнялась, чтобы выразить им мое нежелание показать рану, один из них схватил меня за руки, а профессор спустил с плеч рубашку и стал разбинтовывать рану. Все это было сделано с такой быстротой, что я не успела сказать ни слова, а перевязка и очищение раны были сопряжены со смертельною болью, и у меня сразу вылетело из головы все, что я собиралась сказать.
Однажды вдруг распространилось известие, что государь уже на Николаевской половине. Ко мне вошла инспектриса и предупредила, что государь, вероятно, зайдет в это отделение, так как он всегда заходит к труднобольным, если только в лазарете нет эпидемии. При этом она учила меня, как я должна приветствовать его. Она приказала мне отвечать на вопросы государя, как можно лучше обдумывая каждое слово, и передала все то, что государь, по ее мнению, мог спросить меня.
Меня стали облекать в чистые одежды, кругом все торопливо вытирали и подчищали, хотя нужно отдать справедливость, что у нас не только в лазарете, но и в классах все блестело идеальной чистотой.
И император Александр II вошел в мою комнату в сопровождении инспектрисы, доктора и всего лазаретного персонала. Дрожащим голосом я произносила свое приветствие на французском языке. Государь подошел к моей постели, в виде поклона чуть-чуть наклонил голову и стоял, выпрямившись во весь рост. Он не задавал мне вопросов о моей болезни, – вероятно, доктор сообщил о ней, прежде чем он вошел ко мне, но спросил меня по-французски:
– Вы и теперь еще сильно страдаете?
– Теперь мне лучше, ваше императорское величество, – отвечала я.
– Что нужно, по мнению врачей, чтобы ускорить ее выздоровление? – спросил государь, обращаясь к доктору.
– Деревенский воздух, ваше императорское величество, мог бы укрепить ее расшатанное здоровье.
– Mademoiselle! – обратился ко мне государь. – Есть у вас родственники в Петербурге?
Я отвечала, что здесь живет мой родной дядя, Г‹онецкий›.
– Вы можете отправиться к нему, как только врачи найдут это желательным, и оставаться у него до тех пор, пока совершенно не поправитесь, затем возвратитесь в институт и кончите ваше образование. А пока вы здесь, вы, может быть, хотели бы чего-нибудь сладкого?
Так как такой вопрос не был предвиден maman и я не получила по этому поводу никаких инструкций, то я простодушно отвечала:
– Я благодарю вас от всего сердца, ваше императорское величество, ко мне здесь, в лазарете (я нарочно подчеркнула слово здесь, чтобы государь узнал, что только в лазарете, но мой заряд пропал, конечно, даром), все очень добры, мне дают даже peau de la vierge.
Государь сдвинул брови:
– Что это такое peau de la vierge? Как вы называете это по-русски?
– Ваше императорское величество! Мы называем так «девичью кожу»…
– Ничего не понимаю. Что это значит? – И государь обратился к доктору.
– Род пастилы, ваше императорское величество, которую мы держим как лакомство для больных: она называется у институток «девичьей кожей».
– А когда вы захотите еще чего-нибудь, кроме «девичьей кожи», – сказал государь, обращаясь ко мне и чуть-чуть улыбаясь углами губ, – вы можете об этом заявить господину доктору. Вы все получите, что не повредит вашему здоровью.
Радостный, веселый, подбежал ко мне доктор после обхода всего лазарета и стал говорить о том, как милостив был ко мне государь, какой продолжительной беседы он меня удостоил, сколькими благодеяниями меня осыпал… Через неделю-другую меня отпустят домой, а теперь будут раскармливать: цыплята, вино – все будет к моим услугам…
– Да вы стоите этого! Как мило вы о нас отозвались… Конечно, вы нас выделили, чтобы сделать маленькую неприятность кое-кому. Но ведь этого никто, кроме инспектрисы, не заметил.
Вошла и инспектриса. Несмотря на ее обычный ласковый тон, я заметила, что она мною очень недовольна.
– Напрасно, совершенно напрасно ты утруждала государя такими длинными ответами и всякими пустяками!.. Задерживать государя таким вздором считается верхом неприличия!.. И эта «peau de la vierge» была так некстати!
Но я решила, что ее раздосадовало то, что я в разговоре с государем упомянула о хорошем отношении ко мне только лазаретных служащих.







