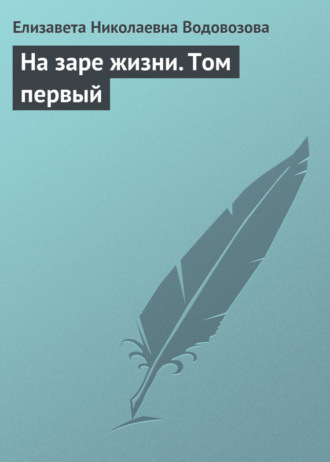
Елизавета Водовозова
На заре жизни. Том первый
Мне совсем не хотелось встречать возвратившихся, но пришлось уступить не то просьбам, не то требованиям Домны, и я вошла в переднюю. Свет зажженной сальной свечи тускло освещал комнату, в которой матушка уже снимала с себя верхнюю одежду. Ей некогда было разговаривать со мной: в не закрытые еще двери передней уже входил староста по какому-то неотложному делу. Но когда подавали ужин, матушка заметила, что я ничего не ем, и обратилась с вопросами по этому поводу и ко мне и к Домне, которая отвечала ей, что оба дня я жаловалась на голову.
– Что же ты молчишь? – дала матушка на меня сердитый окрик. – До сих пор изволишь дуться, что мы не взяли тебя с собою? – Этим ограничились ее разговоры со мной, ее нежный материнский привет после двухдневного отсутствия.
Только что я успела одеться на другой день, как раздался крик: «Няня приехала!» Я бросилась к ней, но от волнения не могла выговорить ни слова, только давала ей целовать и обнимать меня.
– Сказывай же, Нюточка, – засыпала няня вопросами сестру, – была ли весточка от Шурочки, что поделывают Андрюша и Заря? Что они пишут, мои голубчики? – В то время как Нюта беспорядочно отвечала на ее вопросы, желая все сразу передать и поскорее познакомить ее со всеми нашими новостями, она то и дело обхватывала мою голову руками и осыпала меня поцелуями, внимательно заглядывая мне в глаза. – Господи! С нами крестная сила! Да что с тобой, Лизуша? Отчего ты так похудела и побледнела? Больна была, что ли?
Сестра отвечала, что я похудела оттого, что сильно тосковала по ней, да еще эти дни, вероятно, злилась на то, что матушка не взяла меня с собой в гости, куда меня никто не звал. Но тут возвратилась матушка, начались снова поцелуи, спешные расспросы, разговоры… «Однако, – заметила матушка, всматриваясь в няню, – если ты и поправилась, то очень мало…» Затем было приступлено к чтению детских писем, полученных во время няниного отсутствия.
Дурная погода не позволила матушке отправиться на луг после обеда, и мы весь день до вечера просидели вместе, слушая нянины рассказы о посещении киевских мощей и святынь, о дорожных приключениях во время путешествия в Киев.
В этот счастливый для меня день, когда наши наперерыв болтали между собой, я молча наслаждалась сознанием присутствия моей дорогой няни. Но когда после ужина мы остались с нею вдвоем, она вплотную приступила к расспросам о том, что было со мною со Дня ее отъезда. Я охотно рассказывала ей о своем пребывании у Воиновых, не умолчала и о рассуждениях Ковригиной. Няня сейчас же в настоящем свете представила мне причину дурного отзыва этой особы о моей матери, чем отняла у меня возможность подкреплять мое неблагоприятное мнение о ней словами такой личности, как Ковригина. Если няне и не всегда удавалось парализовать мои дурные чувства к матери, то, по крайней мере, своими объяснениями она обыкновенно ослабляла их силу и остроту. «Сердчишко-то у тебя горячее, – говорила она, лаская меня, – а мамашенька-то у тебя деловитая, на ласку скупая, да и нет у нее времечка поболтать с тобою, – вот ты, как крючок, и прицепляешься к ней, во всем винишь ее…» И она начала настаивать, чтобы я сообщила ей обо всем, что еще было со мною в ее отсутствие. Не особенно охотно, но чистосердечно поведала я ей о том, как провела ночь перед отправкою рекрута в город. Изумилась и сильно огорчилась няня, что Домна «осмелилась» оставить меня ночью одну. Но уже дальнейшие рассказы я продолжала все более запинаясь, конфузясь и наконец начала уверять ее, что больше ничего не было со мною. Вероятно, я утверждала это очень неуверенно, так как няня сказала мне, что, верно, я успела за это время разлюбить ее, если не могу по-прежнему говорить с нею откровенно. Я бросилась обнимать ее и уверять в противном, говоря, что если бы я все, все рассказала ей, она сама назвала бы меня «наушницею»…
– Не могу же я рассказывать всего: ведь за нарушенную клятву меня бог покарает!..
– Что, что ты говоришь? – в неописанном ужасе спрашивала няня, поняв, вероятно, в эту минуту, что со мной случилось что-то необычайное. – Как! С тебя брали даже клятву? – И она еще сильнее стала настаивать на том, чтобы я во всем созналась ей.
Воспоминания только что пережитого, ужас нарушить клятву, а не нарушив ее – возбудить отвращение к себе няни, привели меня в полное смятение: я бросилась в ее объятия и, судорожно вздрагивая, долго, долго рыдала на ее груди.
– Разве не тяжкий грех, – спрашивала я ее, когда несколько успокоилась, – нарушать клятву, которую человек дает перед образами, да еще при зажженной лампадочке?
Няня простыми и понятными примерами из жизни объяснила мне, что клятву можно брать только со взрослого, что нарушать ее, действительно, грешно, но что еще более ужасен грех того, кто берет какую бы то ни было клятву с ребенка. Такими клятвами, да еще при зажженной лампадочке, говорила она, можно напугать ребенка до родимчика и отправить его на тот свет, а убийцу невинного ребенка бог карает еще строже, чем убийцу взрослого человека.
Это облегчало мою задачу, и я готова была уже все открыть, как вдруг вспомнила, что если бог меня и не покарает за нарушение клятвы (я находила, что няне это, конечно, должно быть лучше известно, чем Домне и ее пособникам), но зато сами они могут мне отомстить: я не верила в бабу-ягу, но мысль быть брошенной на кладбище, среди мертвецов, леденила мою кровь.
Однако няня не нашла нужным дольше приставать ко мне: вероятно, измученная и моими слезами, и дорогою, она стала торопить меня раздеваться, говоря, что «утро вечера мудреней». Я была так утомлена, что сейчас же заснула, но пережитое тяжелое событие предстало передо мной во сне во всем своем несказанном ужасе, и я начала бредить, плакать, кричать. Няня разбудила меня и, когда я пришла в себя, положила меня с собой в кровать и начала снова настаивать, чтобы я рассказала все, как было, уверяя, что она уже все знает, – я выдала ей в бреду свой секрет; она уверяла, что желает только от меня самой слышать все по порядку, что после этого у меня станет легко на душе, и я сладко засну.
Кстати замечу, что пережитые мною в раннем возрасте тяжелые приключения крепостнической эпохи, а также из ряду вон мое печальное положение в доме после смерти няни на всю жизнь оставили глубокий след в моем организме; при всяком волнении я во сне бредила, с кем-нибудь спорила и разговаривала, кричала и плакала, – одним словом, всегда дважды переживала все, что меня волновало.
Возможно, что из тогдашнего бреда няня ничего не поняла, кроме того, что со мной случилось что-то скверное, но она воспользовалась им, чтобы заставить меня признаться во всем. Взяв с нее слово, что она не будет считать меня «кляузницею» и «наушницею» и не разлюбит за это, как думала я со слов сестры Нюты, я передала ей все, что со мной случилось без нее. Когда я кончила, она точно забыла меня, – долго не отвечала на мои вопросы, а только с ужасом повторяла: «Боже мой, боже мой!» Когда я опять напомнила ей о себе, она начала говорить мне о том, что я совсем неправильно поняла Нюту насчет того, что она говорила мне о кляузах и наушничестве. «Когда прислуга грубит, – объясняла она, – или не очень аккуратно выполняет приказание, не следует из-за этого сердиться, а тем паче жаловаться старшим: устают люди, много у них работы, вот и нужно их пожалеть!.. Другое дело то, что было с тобой! Ты совершила большой грех перед матушкой, что утаила от нее о воровстве, скрыла преступления ее рабов, – ведь это уже заправское преступление, что они заставляли тебя произносить клятвы перед образами да всячески стращали». Но она тут же успокоила меня, говоря, что бог простит меня за все потому, что я делала это «по детскому недомыслию» и что мне нечего бояться этих «воров»: они решительно ничем не могут мне отомстить, и строго приказала мне ни с кем более об этом не говорить; теперь все это она уже сама уладит так, как найдет необходимым. При этом она вдруг добавила, что мне давным-давно пора начинать учиться: «Сашу, – как она говорила, – бог одарил большим умом, но и через книги этого ума ей много прибыло. Ты ведь уже не маленькая, – должна понимать, какова у нас Саша: такая молоденькая, сама еще учится, а уж семье помогает… Вот как бог да книги вразумляют!.. Ну, и ты не лыком шита: поучишься наукам – поумнеешь, поймешь, что надо скрывать, а чего нельзя… А то этак всякий тебя застращает до смертушки либо до калечества».
На другой день было воскресенье; утром няня попросила матушку о дозволении ехать со мною в церковь, отслужить молебен перед началом моих занятий. Каждая мать, вероятно, была бы оскорблена тем, что полуграмотная няня напоминает ей, образованной женщине, о ее прямых обязанностях. Но матушка была далека даже от тени материнского самолюбия: она прекрасно сознавала, что вся ушла в хозяйство, делает много упущений в воспитании своих детей и сильно запоздала с моим обучением, а потому отвечала ей совершенно простодушно: «Ну, уж ты, суета-Егоровна! Не успела после дороги выспаться, а уже за хлопоты принялась!» Матушка с глубоким чувством признательности всегда вспоминала о няне и часто говаривала мне впоследствии: «Поверишь ли, – это был настоящий ангел-хранитель моих детей, просто какой-то гений заботливости: я все более входила в роль хозяина-мужчины, а она – в обязанности матери».
Когда мы одевались, чтобы ехать в церковь, в детскую вошла Домна и шутливо спросила няню, привезла ли она ей обещанный подарок. «Привезти-то привезла, – было ей ответом, – но не отдам его тебе… В плохом виде сдала ты мне барышню: и похудела она у тебя, и побледнела, а что хуже всего – кричит по ночам, бредит, целые разговоры разговаривает! Должно быть, чем-нибудь у тебя она до смерти напугалась…»
Домна не могла даже скрыть своего смущения и молча вышла из комнаты.
Несмотря на свою кротость, поразительную доброту и незлобивость относительно всех без исключения, как «господ», так и служащих, няня на этот раз, должно быть, твердо решила если не покарать Домну и ее сообщников за проделку со мной, то, по крайней мере, сильно припугнуть их. Когда мы возвратились из церкви, Домна накрывала на стол, а няня что-то приводила в порядок в шкафу. Вдруг она начала то отпирать, то запирать его на ключ и прочищать замок.
– А ведь тут кто-то пошалил! – проговорила она. – Скажи-ка, Домна, мужу, чтобы он сегодня позвал ко мне слесаря, – я ему другие замки закажу. Домашних-то воров я не боюсь, – у меня все на счету: на всякой провизии свою метку кладу, а новые замки хочу сделать, чтоб в соблазн не вводить.
– Выходит, Марья Васильевна, потопить меня порешили! Что ж, нашего брата не трудно загубить.
– Сама знаешь, – этого что-то со мной не бывало!.. А ведь я уж много лет с вами живу! Только и нечисти в доме не допущу!.. А ты лучше бы сама во всем повинилась… Барышня вот запирается, говорит, что с нею ничего не было, а сама во сне кричит на весь дом! Смотри, Домна: сегодня у ней проскочит одно словечко, завтра другое – так все и обнаружится… Да и больно она похудела, извелась, точно от долгой болезни!.. Уж тут у вас было что-то неладное…
Домна ни перед кем «не повинилась», но долго ходила как опущенная в воду. Няня никому не говорила об инциденте со мной и открыла его только матушке перед своей кончиной, опасаясь, что без нее я опять попаду на руки той же горничной.
На другой день после молебна няня нашла, что я не могу приступить к занятиям, так как был понедельник – тяжелый день, и матушка вполне согласилась с нею. Зато на следующий день няня просила Нюту начать со мною заниматься и ежедневно проходить несколько букв и слогов, притом непременно в ее присутствии, чтобы и она, няня, могла присмотреться, как ребенка обучать следует, а затем просила матушку каждый вечер хотя минут десять посвящать мне, проверяя пройденное. Дабы сложный проект моего обучения был приемлем «начальством» и его не раздражало бы ее вмешательство, она всячески изворачивалась.
– Вот как, по моему глупому разуму, надо бы устроить это дельце. Нюточка обучит ее нескольким строчкам, а я сейчас же заставлю ее все это затверживать… Уж как к вам-то, матушка барыня, мы явимся вечерком отчетец давать, – все назубок будем знать… Вот вы нас только и будете похваливать…
– Знаю, знаю, – говорила матушка, улыбаясь, – ведь все эти подходы ты устраиваешь, чтобы твоей любимице от меня как-нибудь наперстком в лоб не влетело! Что же, Нюта, нам с тобой приходится подчиниться предписанию нашего директора!
Няня ежедневно утром приводила меня к сестре, садилась подле и следила за каждым словом, за каждым замечанием моей учительницы. Она, вероятно, мало давала бы мне отдохнуть после учения, но в продолжение полутора часа моих занятий, во время которых она безотходно присутствовала, у нее накоплялось много дела по хозяйству, и, как только я кончала с сестрой, ей приходилось бежать, чтобы сделать то или другое распоряжение, выдавать провизию или исполнить какое-нибудь поручение. Но, окончив свои дела, она сейчас же засаживала меня за книгу.
Хотя при обучении грамоте тогда еще не существовало звукового метода[27], но меня и не учили уже, как это было раньше: «аз, буки, веди, глаголь», а просто называли буквы, но зато терзали сложными слогами. В азбуке, по которой меня обучали, четыре-пять согласных нанизаны были на гласную в самом невозможном согласовании и сочетании, так, например, «мргвы, ткпру, ждрву» и т. д. Разбирать и произносить эту невероятную чепуху было настоящею пыткою, и с меня обыкновенно пот катился градом при окончании чтения странички таких языколомных слогов. Если бы не мое желание доставить няне удовольствие, я бы так и застряла на этих слогах, что было со многими детьми наших соседей, которые остались безграмотными только потому, что не могли одолеть эту премудрость. Няня зорко подстерегала, когда матушка возвращалась домой, и немедленно тащила меня к ней для проверки пройденного. Но так как я почти наизусть зазубривала слоги и быстро читала их, то матушка всегда отпускала меня с миром.
Иногда няня после занятий тут же пускалась в рассуждения:
– Ведь как это трудно ребенку! Ну, зачем это язык-то ломают? Кажись бы, просто взяли да и написали какое-нибудь словечко, ну, к примеру, взять хоть бы «книга» либо «стол»… Вот ребенок начитал бы много таких слов и скорехонько выучился бы читать всякую книжку…
– Ну уж, милая моя, тот, кто книгу пишет, поумнее нас с тобой, – возражала ей матушка, не подозревая, что няня своим природным чутьем и здравым соображением была ближе к пониманию надлежащего метода первоначального обучения, чем она, более или менее образованная женщина.
Когда с великой надсадой и отвращением я покончила с распостылым для меня букварем, меня начали обучать письму, а для чтения дали «Священную историю» Анны Зонтаг.[28] Какое это было для меня блаженство! С трудом одолев несколько первых страниц этой книги, я начала читать довольно бегло. Няня приходила в восторг. Ввиду того что у нас в доме совсем не было книг для детского чтения, да и вообще их тогда почти не существовало, я ежедневно должна была прочитать один рассказ из Анны Зонтаг и несколько страниц из Пушкина, но непременно все по порядку, что бы ни попадалось: будь то лирическое стихотворение, поэма, роман, повесть. Теперь я уже с удовольствием шла на урок, а матушка скоро объявила сестре, что нет нужды следить более за моим чтением. Мне было дозволено брать все книги, которые у нас были; но, кроме Пушкина и Анны Зонтаг, у нас были книги, в которых я не понимала ни слова, притом большинство из них на польском и французском языках. Зато Пушкина я перечитывала много, много раз и заучивала на память его стихотворения.
Наконец решено было расширить курс моего обучения: сестра должна была обучать – меня арифметике, а матушка взялась за преподавание французского языка. Тут-то и началась для меня настоящая пытка. Матушке редко удавалось начать занятия раньше девяти часов вечера, то есть после ужина, когда ее самое клонило ко сну. Вследствие этого она сделала распоряжение будить меня ночью в четыре часа. В этой антипедагогической, даже и для того времени, мере матушка оправдывалась тем, что, кроме лета, когда она вставала, как и крестьяне, с рассветом, в остальное время она должна быть на ногах к шести часам. Вот она и приказывала будить меня в четыре часа, чтобы, занявшись со мною часа два, поспеть вовремя на работы. Другого свободного времени у нее не было.
Когда няня в первый же день, назначенный для урока французского языка, не могла добудиться меня, матушка, выведенная из терпения, что ей приходится так долго ждать, дернула меня за руку так, что я в ту же минуту соскочила на пол голыми ногами. При этом няня должна была вылить на мою голову кувшин воды и быстро вытирать меня. Я одевалась под аккомпанемент матушкиных речей в таком роде: «Разные там миндальности не для нас! Я тоже хочу поспать!.. Очень приятно поутру набросить на себя пуховый пеньюарчик, прилечь на кушеточку и с серебряного подносика пить горячий кофеек со сливочками… Ну, да бог нас с тобой достатками обидел! Должна еще благодарить его за то, что есть кому поучить тебя хоть ночью».
С тех пор меня и в морозные, и в более теплые дни будили в четыре часа ночи и каждый раз окачивали холодной водой с головы до пят. После занятий мне не мешали поступать, как я желала, – ложиться опять спать или бодрствовать. Но заснуть я более уже не могла. Хотя, в сущности, я спала теперь немногим меньше, чем прежде, так как ложилась спать уже в девять часов вечера, но я целый день ходила совершенно сонная, измученная и несчастная. Конечно, одною из причин этого было напряженное бодрствование в такое время, когда ребенок должен спать, но еще более это зависело от характера преподавания. От того ли, что на уроках французского языка не присутствовала няня (при которой матушка несколько более сдерживала себя), от ее ли необыкновенно вспыльчивого характера, от отсутствия ли педагогических способностей, а может быть, причиною было и то, что она сама страдала из-за того, что должна мучить родное детище в столь неподходящее для преподавания время, но она всегда была со мной до невероятности нетерпелива. Эти занятия во всех отношениях приносили мне несравненно больше вреда, чем пользы, что заметила в конце концов и сама матушка и в чем откровенно сознавалась мне впоследствии.
После холодного обливания от меня требовали, чтобы я как можно скорее одевалась, но не для того, чтобы я быстро согрелась (правила элементарной гигиены почти никому не были тогда известны), а чтобы не заставлять матушку напрасно терять время. Вследствие этого все было на мне одето кое-как, и я дрожала и от холода, и от преждевременного пробуждения, и от страха предстоящих занятий. О прическе моей никто не думал: «мои всклокоченные волосы падали как попало. Чуть, бывало, во время урока я чего-нибудь не пойму или отвечу невпопад и невольным движением руки хочу отбросить назад упавший на лоб клок волос, как матушка предупреждает это движение, хватает меня за волосы с таким остервенением, что я издаю крики и вопли на весь дом. Она еще более выходит из себя, сильнее дергает меня, толкает со всей силы, осыпает градом колотушек. Иногда она приходила в такое раздражение, что кричала: „Пошла к другому столу, а то я выдеру все твои волосы!“»
У матушки был, как утверждала няня, «отходчивый характер»: она ли делала кому-нибудь неприятность, или Другие огорчали ее, она все скоро забывала. И теперь, возвращаясь домой, она по-прежнему как ни в чем не бывало добродушно обращалась ко мне. Но на меня эти не испытанные до тех пор побои и трепки производили ужасающее впечатление. До этих злосчастных занятий, кроме нескольких толчков от матушки, меня никто пальцем не трогал. Эти побои теперь вызывали во мне жестоко-неприязненное чувство к матери. Няня, которая так умела смягчать, а подчас и парализовать мои дурные чувства, теперь не могла иметь на меня никакого влияния: я не слушала, что она говорила мне по этому поводу, а чаще всего зажимала при этом уши и бросалась на постель выплакать свою обиду. Когда матушка входила в комнату, я выбегала или старалась куда-нибудь ускользнуть, чтобы избежать целования ее руки по утрам, а временами она не могла добиться от меня никакого ответа на свой вопрос.
Однажды матушка за уроком так сердилась на меня, так кричала и стучала кулаком по столу, столько раз прибегала к трепке и колотушкам, что я наконец замолчала и не произносила ни слова. Тогда, взбешенная, она вскочила с своего места, и я уже не знаю, что она хотела со мною сделать, но в эту минуту распахнулась дверь, и няня с плачем повалилась ей в ноги.
– Матушка, дорогая, пожалейте вы свое родное детище! Может, бог и взаправду не наделил девочку разумом насчет французского… Может, она и без него как-нибудь обойдется!
Матушка стала кричать на няню, упрекать ее за баловство, но я в это время успела выскочить за дверь.
– Деточка… милая… – начала няня, подходя ко мне, – не распаляй сердечка твоего злобой против матушки родимой!.. Смертный это грех, дитятко!..
Но я отшатнулась от нее с криком:
– Она не мать моя!.. Я ее ненавижу!







