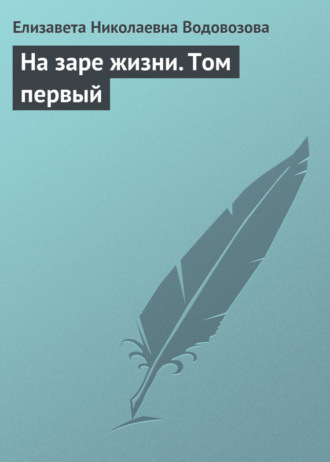
Елизавета Водовозова
На заре жизни. Том первый
Когда после смерти отца Саша, будучи и гораздо старше меня и несравненно более меня умственно развитою, приходила в отчаяние при мысли, что она останется без образования, такие взрывы ее тоски матушка находила вполне законными. Но я в то время не проявляла никакого стремления, никакой страсти к учению. Матушка, будучи из рук вон плохою воспитательницею и еще более плохою и нетерпеливою учительницею, скорее могла отбить всякую охоту к учению, чем развить ее. Саше тоже не удавалось много сделать для моего умственного развития. Она занималась со мною периодически и каждый раз недолго, а потому должна была преследовать одну цель: чтобы отсутствие требуемой подготовки не помешало мне поступить в какое-нибудь учебное заведение. Вследствие этого она напирала преимущественно на формальную сторону обучения. Мне более всего была по душе шумная, веселая игра с детьми, а так как я лишь изредка могла пользоваться этим развлечением, то хотя и бралась за чтение по собственной инициативе, но с величайшею радостью меняла это занятие на шумную игру с детьми, если только представлялся к тому случай. Матушка знала это, а потому и считала мою тоску просто блажью. Вызвать меня на откровенность по этому поводу задушевною болтовнёю и нежною ласкою было не в ее характере, и я все более замыкалась в себе. Развитию во мне откровенности мешало и то, что я каждый раз, когда со мною случалось что-нибудь экстраординарное, была вынуждена к молчанию, побуждаемая к этому чьими-нибудь угрозами.
И вот у меня, по натуре крайне экспансивной, тяжело страдавшей от того, что некому рассказать всего, что со мною случается, вдруг явилась возможность все без утайки высказывать богу. Я предпочла бы, чтобы доверенным лицом было живое существо – Саша или покойная няня, но их не было, и я, стоя ночью на коленях, шепотом жаловалась господу богу на истязания Савельева, просила его, чтобы он скорей прибрал его к себе, а если это грешно, чтобы он сделал его добрым; если же мне суждено погибнуть от его руки, я молила бога, чтобы он, как и няню, причислил меня клику святых (я не сомневалась, что она святая) и дозволил мне уже никогда более не расставаться с нею; просила я его и о том, чтобы матушка любила меня, чтобы Саша перестала гувернантствовать. Чем более я молилась, чем пламеннее была моя молитва, тем более горячих слез проливала я, тем сильнее охватывало меня какое-то еще неведомое наслаждение и облегчение. Каждый раз, кончив молитву, я чувствовала – точно тяжелый камень сваливался у меня с сердца. Вместе с этим я все чаще стала отпрашиваться по воскресеньям в церковь с Дуняшею и решила строго придерживаться постов. По этому поводу я кстати хочу сказать несколько слов, еще более характерно рисующих облик моей матери.
Через несколько лет после нашего переезда в деревню насмешки помещиков над матушкою за ее странности (они видели их в том, что, будучи дворянкой, она работала не покладая рук, что она, как настоящий управляющий, с утра до вечера следила за деревенскими работами, что она издевалась над безделием соседей, не позволяла барствовать своим дочерям, заставляла родную дочь «трепаться» по гувернанткам, что она запрещала сечь своих крестьян и т. д.) заменились истинным почтением. В конце концов всегда так бывает: если человек, не обращая внимания на предрассудки, твердо и уверенно идет к намеченной цели, – он достигнет ее. Правильная, трудолюбивая жизнь моей матери, заметное улучшение совершенно расстроенного хозяйства, гордый, независимый нрав и ее уважение к бедняку, как бы он ни был презираем окружающими, если только она находила в нем надлежащие качества ума и сердца, – все это создало в нашей местности большую популярность моей матери. Помещики, которые прежде подсмеивались над нею, теперь приезжали к ней за советом как к опытной хозяйке. Презирая дрязги, раздоры и тяжбы, которые постоянно вели между собой наши соседи, матушка при возникновении недоразумений с ними, несмотря на свою крайнюю расчетливость, то и дело поступалась своим личным интересом, лишь бы ни с кем не судиться и не тягаться. И соседи зачастую представляли на ее суд споры между собой, уверенные в ее беспристрастном решении. Становой всем ставил ее в пример, потому что от нее никогда не поступает жалоб на своих крестьян и никаких кляуз на соседей, что в ее усадьбе нет ни одного крестьянина «в бегах». Он, как и многие местные жители, называл ее «мудрейшею». Прозвища и сжатые характеристики, которыми матушка награждала помещиков и помещиц, наиболее плохих в нравственном отношении, подхватывались на лету и переходили от одних к другим.
Как-то прошел слух, что настоятель ближайшего к нам мужского монастыря, пользовавшийся особенно скандальною репутациею, объезжает всех помещиков по какому-то делу. Услужливые кумушки сейчас же доложили нам, что между соседями идет спор: одни говорят, что моя мать не примет настоятеля, другие – что она «здорово намылит ему голову за его позорную жизнь». Двое помещиков со своими женами, чтобы быть свидетелями этого свидания и затем разносить рассказы о нем по всему уезду, приехали к нам, точно невзначай, за несколько часов до приезда настоятеля. И когда наконец он вошел, матушка по светскому обычаю протянула ему руку, но он резко перевернул ее ладонью вверх для благословения; она отдернула ее, но и тут ничего не сказала бы ему, если бы он промолчал. Но монах вспылил и наставительно стал отчитывать матушку за то, что она, будучи матерью многочисленного семейства и помещицею, подает дурной пример – не выполняет правил и обрядов православной церкви: не постится, редко бывает в церкви, не подходит под благословение пастырей церкви. Матушка сдержанно отвечала ему, что она не подошла под его благословение, чтобы он, при своей жизни, непозволительной даже для порядочного мирянина, а тем более для монаха, да еще настоятеля, не принял это за насмешку с ее стороны; что же касается ее собственных прегрешений по части внешних обрядов, то она надеется, что бог, по своему милосердию, не покарает ее за них слишком строго ввиду ее честной жизни, полной труда.
Настоятель, услышав ответ, весь побагровел и, вставая, сурово произнес: «По какому праву вы решаетесь делать столь неприличествующий моему сану афронт?»[34] При этом он холодно кивнул головой присутствующим, как бы отдавая общий поклон, перекрестился на образа и немедленно уехал, не объяснив причины своего посещения.
Священник нашего села (мой преподаватель), приходивший в восторг от поведения матушки с настоятелем, к которому он относился крайне враждебно, упрашивал ее особенно настойчиво после этого инцидента поститься и чаще посещать церковь. По его мнению, каждый порядочный христианин православной религии должен строго выполнять предписанные ею обязанности, а для моей матери это сугубо обязательно, иначе это будет вредить ее репутации и подорвет ее авторитет, имеющий благотворное влияние в нашей местности. Рассуждения матушки по этому поводу красноречиво показывали, что она совершенно не понимала всей глубины наивности своих взглядов на христианские обряды, и они сильно покоробили священника. Она дала ему слово выполнить его желание, – ведь это ей ничего не будет стоить: рыбы в сажалке у нас достаточно, говорила она, и чем ее есть когда попало, она раз навсегда прикажет подавать ее в постные дни; масла конопляного выжимается много, и не мало его даже задаром пропадает, а маку в огороде столько, что и девать некуда, – пусть в постные дни приготовляют из него молоко. Что же касается посещения церкви, то и это теперь устроить легче, чем прежде, когда у нее в хозяйстве было меньше лошадей: ей недурно отвлечься от хозяйственных забот, да и младшей дочке она доставит этим удовольствие, так как она «оказывается богомолкой и до смерти любит стукаться лбом об пол».
Таким образом, постные кушания у нас появились не только в посты, но и по средам и пятницам; в то же время подавали и скоромный стол, – каждый ел то, что хотел. Я была в восторге и стала держать строгий пост. Мое время проходило теперь в молитве, в затверживании бесчисленного количества молитв и в чтении книг о жизни святых, которыми батюшка снабжал меня.
В начале рождественского поста все стали обращать внимание на перемену, происшедшую во мне: я исхудала, побледнела, домашние часто заставали меня в моей комнате на коленях перед образами днем, а матушка – ночью. Она уговаривала меня при постных кушаньях пить молоко, за неповиновение угрожала даже запрещением есть постное, упросила священника серьезно поговорить со мною на эту тему, но я не меняла своего образа жизни.
Несмотря на физическую слабость и зимнее время года, что заставляло меня сидеть больше дома, Савельев все реже нападал на меня: он постепенно переставал выходить из своей комнаты, откуда уже более не раздавались ни его окрики на сестру, ни ее стоны, – все это служило для меня знаком того, что молитва моя услышана. Однажды рано утром Нюта вбежала в нашу спальню с известием, что ее мужу очень плохо и что он просит немедленно послать за доктором. За несколько дней перед этим мы случайно узнали, что к помещику-соседу верстах в десяти от нас только что приехал из Петербурга какой-то родственник, который был в то же время военным доктором. Когда отправили за ним лошадей, как-то вышло так, что фамилия Феофана Павловича не была произнесена при нем, и он знал только, что его требуют в наше семейство. Но когда доктора ввели к больному, они узнали друг друга и от волнения не могли говорить в первую минуту. Доктор только после освидетельствования Савельева узнал о том, что он женат на моей сестре.
Оказалось, что приехавший к нам господин был военным врачом в том самом полку, где служил Савельев и еще за несколько лет до удаления со службы последнего находил в нем психическое расстройство. Дикие выходки Савельева, по словам доктора, известны были всем, знавшим его, и проявлялись в том, что он иногда без всякой видимой причины избивал до полусмерти денщика, приходившего к нему по поручению от сослуживцев, исключительно из ревности к французской актрисе, с которою он жил несколько лет. Эта особа хотя и не верила в его сумасшествие, но вследствие его диких выходок и невероятной ревности дала ему прозвище «fou-long» (сумасшедший-длинный). Товарищи подхватили этот эпитет и называли его не иначе, как г. Фулонг. Так же неосновательна была, по словам доктора, ревность Фулонга к его сослуживцам, и они, опасаясь крайне неприятных столкновений с ним, совсем перестали его посещать. Власти были прекрасно осведомлены обо всем, что проделывал Савельев, но не обращали ни малейшего внимания на все истории отчасти потому, что он был исполнительным служакою, отчасти потому, что его сожительница имела большие связи и страстно его любила. Но в конце концов он так измучил ее сценами ревности и она была так испугана одною из них, во время которой он ранил ее, что она решила не жить с ним более в одном городе. Как только она выздоровела, она употребила все усилия, чтобы удалить его со службы: по ее ходатайству Савельев был подвергнут исследованию психиатров, признавших его психически больным, и уволен от службы по прошению, но ни о причинах его увольнения, ни о его болезни не было упомянуто в служебном формуляре. В настоящее время Феофан Павлович, по мнению доктора, имел вид человека, несравненно более расстроенного психически, чем в то время, положение же его в данную минуту он находил безнадежным: у него чахотка в последнем градусе, и едва ли он протянет неделю-другую.
Неожиданно для всех Нюту привело в отчаяние сообщение доктора: обливаясь слезами, она заклинала его всем святым никому не рассказывать о сумасшествии мужа. По ее словам, она столько приняла мук от него при его жизни, неужели же и после его смерти на ней вечно будет лежать печать позора за то только, что она, не подозревая о его сумасшествии, вышла за него замуж, к тому же не по своей воле… Этот страх сестры будет понятен для каждого, кто вспомнит, что в те отдаленные времена семья, в которой был сумасшедший, скрывала это, как величайший для нее позор.
Доктор был крайне поражен тем, что у Савельева, прожившего с нами столько времени, никто не заподозрил психического расстройства.
Савельев прожил гораздо больше, чем предсказывал доктор, и умер лишь в феврале. Я прогостила у Воиновых последние дни его жизни и еще долго оставалась у них после его похорон. Когда я возвратилась домой, я узнала, что от петербургского дядюшки получено письмо, в котором он извещал, чтобы матушка в августе привозила меня в Петербург, и прислал программу, по которой меня следовало подготовить к вступительному экзамену в институт. Известие, что я скоро и навсегда уеду из дому, чрезвычайно обрадовало меня в первую минуту. Но когда я пораздумала, что до осени остается еще много времени, я опять затосковала. Хотя от Савельева я уже не могла ожидать никаких каверз, но мысль, что в родительском доме меня всегда будут преследовать те или другие напасти, давно твердо засела в моей голове.
Моя напряженная религиозность, прерванная в чужом доме прежде всего тем, что я была отвлечена от нее играми с детьми, теперь проявилась с новою силой. Однажды матушка, не зная, что я сижу в следующей от нее комнате, сказала сестре: «Ума не приложу, что мне делать с девочкой, – того и гляди, из нее монахиня выйдет».
О монастыре я никогда не думала, но при этих словах моя фантазия разыгралась вовсю. Я удивлялась, как раньше мне не приходила в голову мысль посвятить себя богу: ведь таким образом я отмолила бы матушкины грехи, которые мне казались очень тяжкими по отношению ко мне, и избавилась бы. от родительского крова. Когда я решилась высказать свою просьбу матушке о том, чтобы она поместила меня в монастырь, она начала так рыдать, что я тоже расплакалась. Слезы матери принесли мне утешение: ничто не могло заставить забиться мое сердце такою радостью и счастьем, как проявление ко мне горячих чувств матери, – к сожалению, она была крайне скупа на них. На другой день священник вместо урока все время убеждал меня в том, что девочки не могут делаться монахинями, а когда я кончу курс в институте и мое желание останется неизменным, никто не будет мешать мне его осуществить.
Но мои монастырские фантазии так же быстро исчезли, как и пришли. Мое сердце скоро было преисполнено радостною надеждой на свидание с Сашею: матушка прочитала мне свое письмо к ней, в котором она приказывала ей как можно скорее отказаться от всех занятий, – через недели две она пришлет за нею лошадей, чтобы она могла немедленно приступить к подготовлению меня по всем предметам институтской программы. Между прочим, она извещала ее и о том, что денег, которые она получила за ее занятия, а также и скопленных ею от хозяйства, хватит на поездку всех нас в Петербург.
Итак, мои ожидания новых несчастий на этот раз не сбылись: в марте стояли морозы, и наше озеро было покрыто крепким льдом; опасаясь новых фантазий с моей стороны, матушка часто начала посылать меня с Дуняшею к детям Воиновых, или они посещали нас. Во второй половине апреля приехала Саша, и тут уже я сама решила, что при ней со мною не может произойти никаких несчастий. Я бодро начала готовиться к приемному экзамену, и, несмотря на усиленные занятия, мое здоровье стало быстро поправляться, и я все меньше предавалась молитве, а поститься совсем перестала, когда увидала, что Саша всегда ест скоромное.
Часть II
Глава VII. Дореформенный институт
Смольный монастырь. – Прием «новеньких». – Начальница Леонтьева. – Ратманова. – Бегство Голембиовской
Институт в прежнее время играл весьма важную роль в жизни нашего общества. Институтки в качестве воспитательниц и учительниц, как своих, так и чужих детей, очень долго имели огромное влияние на умственное и нравственное развитие целого ряда поколений. Однако, несмотря на это, правдивое изображение института долго было немыслимо. В прежнее время в печати можно было говорить либо только о внешней стороне жизни в институте, либо восхвалять воспитание в нем. Это тем более странно, что цензура уже давно начала довольно снисходительно относиться к статьям, указывающим недостатки учебных заведений других ведомств. Но лишь только касались закрытых женских учебных заведений и в них указывались какие-нибудь несовершенства, такие статьи пропускали только в том случае, когда выражения: «классные дамы», «начальница», «инспектриса», «институтка» были заменены словами: «гувернантки», «мадам», «пансион», «пансионерка» и т. п.
В этом очерке я говорю исключительно о Смольном, этом древнейшем и самом огромном из всех подобных образовательных учреждений. Он долго служил образцом для устройства не только остальных институтов, но и многих пансионов и различных женских учебных заведений. Мне кажется, не безынтересно познакомиться с результатами воспитания в Смольном, в основу принципов которого его основателями (Екатериною II и Бецким) были положены передовые идеи Западной Европы.
В числе способов обучения устав этого воспитательного среднеучебного заведения требует «паче всего возбуждать в воспитываемых охоту к чтению книг, как для собственного увеселения, так и для происходящей от того пользы». Он вменяет в обязанность «вперять в них (детей) охоту к чтению» и ставит непременным условием иметь в заведении библиотеку. Кроме того, устав возлагает на воспитателей обязанность «возбуждать в детях охоту к трудолюбию, дабы они страшились праздности, как источника всякого зла и заблуждения». Он указывает на необходимость научить детей «соболезнованию о бедных, несчастливых и отвращению от всяких продерзостей». Мало того, для сохранения здоровья предписывается увеселять юношество «невинными забавами», чтобы искоренять все то, что «скукою, задумчивостью и прискорбием назваться может». Путем такого гуманного воспитания императрица Екатерина II думала создать в России новую породу людей.
Что эти мечты Екатерины II не могли осуществиться в ее царствование, когда Россия была погружена в беспросветный мрак невежества, – это понятно, но посмотрим, что представлял институт почти через сто лет после своего основания.
В одно ясное, солнечное, но холодное октябрьское утро я подъезжала с моею матерью к Александровской половине Смольного[35] с тем, чтобы вступив в него, оставаться в нем до окончания курса. Но высокие монастырские стены, которые с этой минуты должны были изолировать меня на продолжительное время не только от родной семьи, но, так сказать, от всех впечатлений бытия, от свободы и приволья деревенского захолустья, откуда меня только что вывезли, не смущали меня. Матушка много рассказывала мне об институте, но, не желая, вероятно, волновать меня, недостаточно останавливалась на его монастырской замкнутости: все ее рассказы оканчивались обыкновенно тем, что у меня будет много-много подруг, что с ними мне будет очень весело. В детстве я страдала от недостатка общества сверстниц, и это известие приводило меня в восторг. Мое настроение было такое бодрое, что меня не смутил и величественный швейцар в красной ливрее, который распахнул перед нами двери института.
Не успели мы еще снять верхнюю одежду, как в переднюю вошли дама с девочкой приблизительно моего возраста. Как только мы привели себя в порядок, к нам подошла дежурная классная дама, m-lle Тюфяева, по внешности особа весьма антипатичная, очень старая и полная, и заявила нам, что инспектриса, m-me Сент-Илер, не может нас принять в данную минуту: «Вы не только опоздали на три месяца привезти ваших дочерей, но и сегодня вас ожидали к девяти часам утра, как вы об этом писали. К этому времени приглашены были и экзаменаторы. Теперь одиннадцать часов, и учителя заняты…»
Моя матушка и m-me Голембиовская начали извиняться, но m-lle Тюфяева, не слушая их, попросила нас всех следовать за нею в приемную; при этом она не переставая ворчала на наших матерей, и ее однообразная воркотня раздавалась в огромных пустых коридорах как скрип неподмазанных колес.
Когда классная дама вышла из комнаты, мне захотелось поболтать с новою подругою, но это не удавалось: она стояла около своей матери, то прижимаясь к ней, то нервно хватая ее за руки, то припадая к ее плечу и жалобно выкрикивая: «Мама, мама!», а слезы так и лились из ее глаз.
Мать и дочь Голембиовские были чрезвычайно похожи друг на друга, но так, конечно, как может походить тридцатипятилетняя женщина на десятилетнюю девочку. Обе они были брюнетки, с большими черными глазами, бледные, худощавые, с подвижными лицами и правильными, красивыми чертами лица, обе одеты были в глубокий траур, то есть в черные платья, обшитые белыми полосами, называемыми тогда плерезами.
Не получив поощрения со стороны моей будущей подруги Фанни для сближения с нею, я стала прислушиваться к разговору старших. Вот что я узнала. М-те Голембиовская была полька-католичка, как и ее муж, который умер несколько недель тому назад. Оставшись с дочерью Фанни без всяких средств, она переехала из провинции в Петербург и поселилась в семье своего родного брата, который зарабатывал хорошие средства, но имел большую семью. Г-жа Голембиовская занималась у него хозяйством и обучала его детей иностранным языкам, которые она хорошо знала. Ее брат выхлопотал для Фанни, своей племянницы, стипендию у какого-то магната, которая и дала возможность поместить ее в институт.
Прозвонил колокол, и к нам вошли пепиньерка[36] и учитель русского языка: первая должна была заставить меня ответить молитвы и проэкзаменовать нас обеих из французского языка, а учитель – из русского. Экзамен был совершенно пустой и благополучно сошел для нас обеих. Через несколько минут m-lle Тюфяева повела нас, новеньких, одеваться в переднюю. Мы должны были явиться к начальнице вместе с нею и отправились по бесконечным холодным и длинным коридорам. Туда же обязаны были явиться и наши матери, но им приходилось сделать эту дорогу не коридорами, которыми ходили лишь люди, так или иначе прикосновенные к институту, а по улице, и войти к начальнице с подъезда Николаевской половины.
Мне так хотелось увидеть поскорее моих будущих подруг, что у меня моментально вылетел из головы грубый прием m-lle Тюфяевой; не обратила я внимания и на официальное выражение ее лица и непринужденно начала засыпать ее вопросами:
– Где же девочки, тетя?
– Я тебе не тетя! Ты должна называть классных дам – mademoiselle…
Сердитый окрик заставил меня замолчать. Но вот и приемная.
Начальница Смольного, Мария Павловна Леонтьева[37], была в это время уже старухой с обрюзгшими и отвисшими щеками, с совершенно выцветшими глазами без выражения и мысли. Ее внешний вид красноречиво говорил о том, что она прожила свою долгую жизнь без глубоких дум, без борьбы, страданий и разочарований. Держала она себя чрезвычайно важно, как королева первостепенного государства, давая чувствовать каждому смертному, какую честь оказывает она ему, снисходя до разговора с ним[38].
Она действительно была немаловажною особой: начальница старейшего и самого большого из всех институтов России, она и помимо этого имела большое значение по своей прежней придворной службе, а также и вследствие покровительства, оказываемого ей последовательно тремя государынями; она имела право вести переписку с их величествами и при желании получать у них аудиенцию. К тому же Леонтьева имела огромные связи не только при нескольких царственных дворах, но и вела знакомство с высокопоставленными лицами светского и духовного звания. Своего значения она никогда не забывала: этому сильно помогали огромное население двух институтов и большой штат классных дам и всевозможных служащих той и другой половины Смольного, которые раболепно пресмыкались перед нею[39]. Забыть о своем значении она не могла уже и потому, что была особою весьма невежественною, неумною от природы, а на старости лет почти выжившею из ума. От учащихся она прежде всего требовала смирения, послушания и точного выполнения предписанного этикета, а классные дамы, согласно ее инструкциям, должны были все свои педагогические способности направить на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института. Порядок и дух заведения строго поддерживались ею; перемен и нововведений она боялась как огня и ревниво охраняла неизменность институтского строя, установившегося испокон века. Нашею непосредственною начальницею была инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «maman», но мы часто видели и нашу главную начальницу, Леонтьеву: ежедневно, по очереди, двое из каждого класса носили ей рапорт о больных, каждый большой праздник воспитанницы должны были являться в ее апартаменты с поздравлениями, она присутствовала на всех наших экзаменах, от времени до времени приходила на наши уроки или в столовую во время обеда, и, кроме всего этого, мы каждую субботу и воскресенье видели ее в церкви. За все время моего пребывания в институте я никогда не слыхала, чтобы она. кому-нибудь из нас сказала ласковое, сердечное слово, задала бы вопрос, показывающий ее заботу о нас, чтобы она проявила хотя малейшее участие к больной, которая, как ей было известно из ежедневно подаваемых рапортов, пролежала в лазарете несколько месяцев в тяжелой болезни. Она посещала и лазарет, но разговаривала с воспитанницами не иначе, как строго официально. Являясь к нам на экзамены, Леонтьева никогда не интересовалась ни умственными способностями той или другой ученицы, ни отсутствием их у нее. Принимая от нас рапорты, она спрашивала, какое Евангелие читали в церкви в последнее воскресенье или. по поводу какого события установлен тот или другой праздник. На экзаменах она поправляла только произношение отдельных слов, и не потому, что оно было неправильно, а потому, что у нее было несколько излюбленных слов, произношением которых ей никто не мог угодить. Как бы воспитанница ни произнесла «святый боже», «божественный», «тысяча», «человек», она сейчас заставляла ее повторять эти слова за собою. Когда мы отвешивали ей реверанс при ее появлении, она непременно замечала по-французски: «Вы должны делать глубже ваш реверанс!» А когда мы сидели, она каждый раз считала долгом сказать: «Держитесь прямо!»
В церкви мы стояли стройными рядами, но как только входила начальница, она начинала все перестраивать по-своему: воспитанниц маленького роста ставила в проходах, а более высоких – к клиросу; в другой же раз вытягивала на средину больших ростом, а маленьких выставляла у проходов, и так далее до бесконечности. Если на следующий раз дежурная дама ставила в церкви воспитанниц так, как угодно было начальнице поставить их в последний раз, та все-таки переставляла их по-своему. Этим и ограничивались все «материнские» заботы начальницы Леонтьевой относительно воспитанниц Александровской половины. Одним словом, нашею начальницею, без преувеличения можно сказать, была не женщина, а просто какой-то каменный истукан, даже в то рабское, крепостническое время поражавшая всех своим бездушным, деревянным отношением к воспитанницам. Однако эта особа умела превосходно втирать очки кому следует. Ее письма и отчеты государыне дышат необыкновенною добротой к детям, снисхождением и всепрощением ее любвеобильного сердца. В 1851 году Леонтьева пишет императрице: «Дети всегда послушны, за редкими исключениями, когда их волнует живость, простительная в их возрасте». Через несколько лет, возвращаясь после летнего отдыха из деревни, она пишет: «Велика моя радость снова увидеть мою милую, многочисленную семью!» («Статс-дама Мария Павловна Леонтьева. Составила З. Е. Мордвинова», стр. 85, 93).
По установившимся традициям и кодексу весьма своеобразной институтской морали, нередко, впрочем, не имевшей ничего общего с здравым смыслом, начальница, несмотря на свой престарелый возраст, должна была иметь величественный вид, даже и в том случае, если природа не наделила ее для этого никакими данными. Для достижения этой цели Леонтьева прибегала к незамысловатым средствам: она всегда туго зашнуровывалась в корсет, ходила в форменном синем платье и в высоком модном чепце. Разговаривая с подчиненными, она смотрела не на них, а поверх их голов, до смешного растягивала каждое слово, все произносила необыкновенно торжественно, не давала возможности представлявшимся ей лицам вдаваться в какие бы то ни было объяснения, а тем более подробности, и допускала лишь лаконический ответ: «да» или «нет, ваше превосходительство», имела всегда крайне надменный вид и застывшую улыбку или, точнее сказать, гримасу на старческих губах, точно она проглотила что-нибудь горькое.
Когда мы, новенькие, в первый раз подходили к приемной начальницы, мы встретили здесь наших матерей и вошли вместе с ними в сопровождении m-lle Тюфяевой. В огромной приемной, обставленной на казенный лад, у стены против входной двери сидела на диване начальница Леонтьева, а подле нее на стуле ее компаньонка Оленкина[40].
– Мама! Мама! – вдруг закричала Фанни, бросаясь в объятия матери. Этот крик раздался совершенным диссонансом среди гробовой тишины.
Начальница чуть-чуть приподняла голову, что для Оленкиной, видимо, послужило сигналом узнать фамилии новоприбывших, так как она быстро подошла к нашим матерям, а затем начала что-то шептать на ухо начальнице.
– Потрудитесь подойти! Сюда! Ближе! Я прежде всего попрошу вас покончить с этою сценой… Можете садиться! – И Леонтьева величественным жестом указала Голембиовской на стул против своего стола. Фанни подбежала к матери и крепко вцепилась в ее юбку.
– Видите ли, – снова обратилась начальница к Голембиовской, – каких недисциплинированных, испорченных детей вручаете вы нам!
– Испорченных? – переспросила Голембиовская с изумлением, в своей провинциальной простоте не понимавшая ни величия начальницы, ни того, как с нею следует разговаривать. – Уверяю вас, сударыня, что моя Фанни послушная, ласковая, привязчивая девочка!.. А то вдруг «испорченная»! Как же это можно сказать, не зная ребенка!
В ту же минуту над ее стулом наклонилась компаньонка Оленкина и шепотом, который был слышен во всей комнате, произнесла, отчеканивая каждое слово:
– Должны называть начальницу – ваше превосходительство. Вы не имеете права так вольно разговаривать с ее превосходительством! Извольте это запомнить!
– Извините, ваше превосходительство, – заговорила переконфуженная Голембиовская. – Я вас назвала не по титулу… Я ведь провинциалка! Всех этих тонкостей не разумею… Все же о своей девочке опять скажу вам: золотое у нее сердечко! Будьте ей матерью, ваше превосходительство! Она ведь у меня сиротка! – И слезы полились из глаз бедной женщины.







