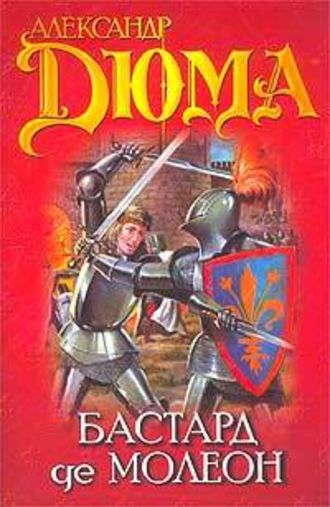
Александр Дюма
Бастард де Молеон
– Тише! – послышался чей-то голос рядом с Аженором, который, вздрогнув, в испуге отпрянул назад. – Спокойно, молодой человек! Мы пришли за вами.
Аженор обернулся и увидел двух мужчин, закутанных в темные плащи; они появились из глубины садовой беседки, где, как он думал, никого нет; раздумья помешали ему услышать звуки шагов по песчаной аллее.
Тот, кто говорил, подошел к Молеону и взял его за руку. – Это вы, коннетабль! – прошептал молодой человек.
– Да, я пришел доказать вам, что не забыл о вас, – ответил Бертран.
– Вы не забыли, но ведь вы не король, – сказал Молеон.
– Верно, коннетабль не король, – перебил другой мужчина, – зато я король и, насколько мне помнится, получил свою корону не без вашей помощи.
Аженор узнал дона Энрике.
– Государь, простите меня, умоляю вас, – в полной растерянности бормотал он.
– Прощаю вас, мессир, – ответил король, – и, так как вы не присутствовали при раздаче наград, вам достанется кое-что Получше того, что получили другие.
– Мне ничего не надо, государь, ничего! – умоляюще сказал Молеон. – Я ничего не хочу, ибо люди станут говорить, будто я что-то у вас выпрашивал. Дон Энрике улыбнулся.
– Успокоитесь, шевалье, – ответил он, – никто этого не скажет, потому что вряд ли кто-нибудь будет выпрашивать то, что я хочу вам предложить. Это миссия, полная опасностей и в то же время настолько почетная, что заставит все христианские народы устремить взоры на вас. Сеньор де Молеон, вы будете королевским послом.
– О, ваша светлость, я не смел даже надеяться на подобную честь.
– Полно, не скромничайте, молодой человек, – сказал Бертран, – сперва король вместо вас намеревался послать меня, но счел, что я могу понадобиться здесь, чтобы стать во главе наемников, а с этими людьми, поверьте мне, нелегко справляться. Именно в те минуты, когда вы обвиняли нас в том, что мы о вас забыли, я напомнил его величеству о вас как о человеке красноречивом, твердом и хорошо говорящим по-испански. Будучи беарнцем, вы уже наполовину испанец. Но, как вам сказал король, это опасная миссия: надо отправиться на поиски дона Педро.
– Дона Педро! – в порыве радости вскричал Аженор.
– Ага, шевалье, – подхватил Энрике, – я вижу, вас это устраивает! Аженор почувствовал, что радость делает его бестактным, и сдержался.
– Да, сир, устраивает, – сказал он, – ибо я усматриваю в этой миссии возможность послужить вашему величеству.
– Вы в самом деле окажете мне услугу, и немалую, – продолжал Энрике, – хотя, предупреждаю вас, мой благородный посланец, не без риска для жизни.
– Располагайте мной, государь.
– Надо будет, – пояснил король, – объехать всю Сего-вийскую равнину, где-то там сейчас блуждает дон Педро. В качестве верительной грамоты я дам вам перстень, который принадлежит моему брату; дон Педро наверняка его узнает. Но прежде чем согласиться, шевалье, подумайте хорошенько над тем, что я вам скажу.
– Я слушаю вас, государь.
– Если по дороге на вас нападут, приказываю вам сдаться в плен; приказываю также под угрозой смерти не выдавать целей вашей миссии; вы повергли бы в уныние слишком многих наших сторонников, сообщив им, что я, достигнув вершины своего счастья, обратился к моему врагу с предложением заключить мир.
– Заключить мир! – изумился Аженор.
– Так хочет коннетабль, – сказал король.
– Я, сир, не могу ничего желать, я могу лишь просить, – возразил коннетабль. – Вот я и просил вашу светлость взвесить перед лицом Всевышнего всю опасность той войны, которую вы ведете. В таком деле не самое главное – иметь на своей стороне земных царей, нужно, чтобы за тебя стоял и Царь небесный. Правда, склоняя вас к миру, я нарушаю данные мне указания. Но даже мудрый король Карл Пятый одобрит меня, когда я скажу ему: «Государь, жили-были два мальчика, рожденные от одного отца, два брата; подняв меч друг на друга, они когда-нибудь могут сойтись в поединке и погибнуть. Государь, чтобы Бог простил брата, поднявшего меч на брата, прежде всего необходимо, чтобы закон стоял на стороне того, кто жаждет Божьего прощения». Дон Педро предложил вам мир, но вы отказались; если бы вы приняли мир, то люди сочли бы, что вы испугались; теперь, когда вы победили, на вас возложена корона и вы стали королем, вы сами должны предложить дону Педро мир, и люди скажут, что вы государь великодушный, незлобивый, радеющий только о справедливости; и та часть земель, что вы сейчас потеряете, скоро вернется к вам благодаря свободному выбору ваших подданных. Если дон Педро не примет мира, ну что ж, мы выступим против него и вам больше не в чем будет себя упрекнуть, поскольку он сам обречет себя на гибель.
– Все это правильно, – со вздохом ответил Энрике, – но представится ли мне возможность его погубить?
– Государь, я сказал то, что сказал, а говорил я по совести, – ответил Бертран. – Тот, кто желает идти прямым путем, не должен себя убеждать, что может пройти тот же путь, сильно петляя.
– Да будет так! – воскликнул король, притворившись, будто во всем согласен с Дюгекленом.
– Значит, решение вашего величества твердо? – спросил Бертран.
– Да, окончательно.
– И вы не сожалеете о нем?
– О господин коннетабль, вы требуете от меня слишком многого! – возразил король. – Я даю вам свободу действий, чтобы вы принесли мне мир, но большего не просите.
– Тогда, государь, разрешите мне дать шевалье те инструкции, о которых мы с вами условились, – попросил Бертран.
– Не утруждайте себя этим, – живо ответил король. – Я сам все объясню графу, и, кстати, – прибавил он шепотом, – вы же знаете, что мне надо передать ему кое-что.
– Прекрасно, государь! – воскликнул Бертран, который не догадывался, почему король так торопится его удалить.
И Дюгеклен ушел, но, не дойдя до порога беседки, вернулся.
– Не забывайте, государь, что за добрый мир, если потребуется, можно отдать полкоролевства, условия его должны быть совсем мягкими, а манифест – очень осторожным, христианским, не задевающим ничьей гордыни.
– Да, разумеется, – сказал король, невольно покраснев, – будьте уверены, коннетабль, что мои намерения именно таковы…
Бертран не счел нужным настаивать на своем, хотя показалось, что на миг у него возникли какие-то подозрения; но король проводил Дюгеклена такой дружеской улыбкой, что подозрения коннетабля, кажется, рассеялись.
Король посмотрел вслед Бертрану.
– Шевалье, – обратился он к Молеону, едва коннетабль скрылся среди деревьев, – вот перстень, что подтвердит дону Педро ваши полномочия. Но пусть слова, сказанные коннетаблем, сотрутся из вашей памяти, а мои – запечатлятся в ней навсегда.
Аженор кивнул в знак того, что внимательно слушает.
– Я обещаю дону Педро мир, – продолжал Энрике, – и отдам ему половину Испании от Мадрида до Кадикса, я останусь его братом и союзником, но при одном условии.
Аженор поднял голову, все больше удивляясь тону, нежели смыслу речи государя.
– Да, – подтвердил Энрике, – что бы ни говорил коннетабль, я настаиваю на этом условии. По-моему, Молеон, вы удивлены, что я кое-что скрываю от славного коннетабля. Слушайте меня: коннетабль – бретонец, человек, непоколебимый в своей честности, но он даже не догадывается, как дешевы клятвы в Испании, стране, где страсть жжет сердца нещаднее, чем солнце землю. Поэтому он не может понять, как сильно ненавидит меня дон Педро. Будучи законопослушным бретонцем, коннетабль забывает, что дон Педро предательски убил моего брата дона Фадрике и без суда задушил сестру его суверена. Коннетабль полагает, что у нас, как во Франции, война ведется на полях сражений. Король Карл, который повелел Дюгеклену уничтожить дона Педро, знает об этом лучше; это гений короля Карла продиктовал мне те приказы, которые я даю вам.
Аженор, до глубины души потрясенный признаниями короля, склонился в поклоне.
– Итак, вы отправитесь к дону Педро, – продолжал король, – и от моего имени пообещаете ему все, о чем я вам говорил, но за это потребуете, чтобы мавр Мотриль и двенадцать придворных вместе с семьями – на этом пергаменте их имена – стали моими заложниками.
Аженор вздрогнул. Король упомянул о двенадцати придворных с семьями; значит, с Мотрилем, если он окажется при дворе короля Энрике, будет и Аисса.
– Если это условие будет выполнено, – продолжал король, – вы доставите заложников ко мне.
От радости дрожь пробежала по жилам Аженора; дон Энрике это заметил, хотя и истолковал неверно.
– Вам страшно? – спросил он. – Но ничего не бойтесь и не думайте, что ваша жизнь будет подвергаться опасностям среди этих негодяев. Нет, опасность невелика, я, по крайней мере, так считаю; если вы быстро доберетесь до реки Дуэро, то на другом берегу вас будет ждать эскорт, который защитит вас от любого нападения, а мне обеспечит взятие заложников.
– Государь, вы заблуждаетесь, вовсе не страх заставил меня вздрогнуть, – возразил Молеон.
– Тогда что же? – спросил король.
– Нетерпение от желания начать служить вам: я готов ехать сию минуту.
– Отлично! Вы отважный рыцарь, благородное сердце! – воскликнул король. – Уверяю вас, молодой человек, вы далеко пойдете, если без колебаний пожелаете связать вашу судьбу с моей.
– О, ваша милость, – ответил Молеон, – вы уже наградили меня больше, чем я того заслуживаю.
– Когда вы намерены ехать?
– Немедленно.
– Поезжайте. Вот три бриллианта, которые называют «тремя волшебниками»; евреи оценивают каждый из них в сто тысяч золотых экю, а в Испании полно евреев. И вот еще тысяча флоринов, но для кошелька вашего оруженосца.
– Ваша светлость, вы осыпаете меня дарами, – смутился Молеон.
– Когда вы вернетесь, – продолжал дон Энрике, – я пожалую вас в командиры отряда из ста копьеносцев, которых вооружу на собственный счет, и личным знаменем.
– О, ваша милость, умоляю вас, не говорите больше ни слова.
– Но обещайте мне не рассказывать коннетаблю об условиях, которые я ставлю моему брату.
– О, не беспокойтесь, государь, хотя он будет возражать против этих условий, я, как и вы, не хочу, чтобы он этому противился.
– Благодарю вас, шевалье, – сказал Энрике, – вы не только храбры, но и умны.
«Я влюблен, – пробормотал про себя Молеон, – а любовь, говорят, наделяет нас всеми теми достоинствами, которых у нас нет».
Король отправился назад к Дюгеклену.
Аженор разбудил своего оруженосца, и спустя два часа светлой лунной ночью хозяин и слуга уже ехали рысью по дороге на Сеговию.
XI. Как дон Педро тоже обратил внимание на носилки и обо всем, что за этим последовало
Тем временем дон Педро достиг Сеговии, затаив в глубине души горькую боль.
Первые посягательства на его десятилетнее царствование оказались для него более ощутимыми, нежели последующие поражения в битвах и измены друзей. Ему, любителю ночных прогулок – обычно он, закутавшись в плащ, бродил по Севилье под охраной лишь собственного меча, – казалось позором красться по Испании, словно вор; он считал, что король погубит себя, если хоть однажды позволит посягнуть на неприкосновенность своей особы.
Но рядом с ним, подобный древнему демону, что вселял гнев в сердце Ахилла,[141] находился Мотриль – он скакал галопом, если дон Педро спешил, замедлял ход, если король ехал шагом, – этот истинный демон ненависти и бешеных страстей, который беспрестанно терзал душу короля горькими советами, подсовывая ему восхитительно-терпкие плоды мщения; Мотриль, всегда неистощимый на выдумки, когда надо было замыслить какое-либо злодейство или бежать от опасностей; Мотриль, чье неиссякаемое красноречие, черпаемое им из неведомых сокровищниц Востока, рисовало перед беглым королем такую захватывающую картину богатства, всесилия, могущества, о которых дон Педро не мечтал даже в свои самые счастливые дни.
Благодаря Мотрилю, пыльная и долгая дорога сокращалась, свертывалась, словно лента под руками прядильщицы. Человек пустыни, Мотриль умел в жаркий полдень отыскать ледяной источник, прячущийся под дубами или платанами. Когда они проезжали через города, Мотрилю удавалось устроить несколько радостных встреч, несколько проявлений преданности – этих последних отблесков угасающей королевской власти.
– Значит, люди еще любят меня, – говорил король, – или уже перестали бояться, что, наверное, к лучшему.
– Когда вы снова станете настоящим королем, тогда и узнаете, обожают вас или трепещут перед вами, – с еле уловимой иронией возражал Мотриль.
Но Мотриль с радостью обратил внимание на то, что дон Педро, терзаемый страхами и надеждами, охваченный мучительными раздумьями, ни единым словом не обмолвился о Марии Падилье. Находясь рядом с королем, эта обольстительница влияла на него так сильно, что ее власть приписывали волшебству; когда они были в разлуке, казалось, что дон Педро не только изгонял Марию из своего сердца, но и на-врочь о ней забывал. Мысли дона Педро, натуры с пылким воображением, капризного короля, южанина, то есть человека страстного в полном смысле этого слова, с первых минут его путешествия с Мотрилем занимало иное: носилки, шторы которых от Бордо до Витории ни разу не раскрылись; та женщина, которую Мотриль повсюду возил с собой и которая вместе с ними бежала через горы. Под капюшоном, когда его два-три раза развевал ветер, можно было мельком заметить восхитительную – бархатистые глаза, черные как смоль волосы, смуглое точеное личико – пери Востока; звуки гузлы, в сумерках издававшие нежные стоны любви, тогда как король томился тревогой, – все это постепенно отдаляло от дона Педро образ Марии Падильи, и разлука наносила далекой любовнице гораздо меньше вреда, чем это незнакомое, таинственное создание, которое король в своей красочной и буйной фантазии, похоже, готов был считать неким духом, покорным Мотрилю, но более могущественным, чем мавр.
Так добрались они до Сеговии, не встретив в пути никакой серьезной помехи. В городе ничего не изменилось. Король все нашел в прежнем виде; во дворце находился трон, в славном городе стояли лучники, а подданные, видя их, были преисполнены почтительности.
Наутро после приезда короля сообщили о появлении большого войска; это пришел Каверлэ со своими отрядами, что, не изменив клятве, принесенной ими своему суверену, и проявив преданность, всегда составлявшую силу Англии, присоединились к союзнику Черного принца, которого и ждал дон Педро.
Накануне, по пути в Сеговию, к англичанам примкнули части андалусцев, гренадцев и мавров, спешившие на помощь королю.
Вскоре прибыл тайный гонец принца Уэльского, этого вечного и неутомимого врага французов; с ним Иоанн и Карл V сталкивались всюду, где во времена их правления Франция терпела поражения. Гонец привез королю дону Педро отличные новости.
Черный принц набрал в Оше армию, и уже двенадцать дней она была в походе; из Наварры он послал эмиссара к дону Педро, чтобы сообщить ему о скором приходе.
Таким образом, трон дона Педро, пошатнувшийся было из-за коронования в Бургосе Энрике де Трастамаре, все больше укреплялся. И по мере того как он упрочивался, со всех сторон стекались те непоколебимые сторонники власти, добрые люди, которые уже было собрались идти в Бургос приветствовать дона Энрике, когда до них дошло, что еще не время трогаться в путь и они вполне могли бы, прибавив ходу, оставить незаконно свергнутого короля у себя в тылу.
К этим людям – их всегда немало – присоединилась не столь значительная, но более благородная группа преданных, чистых сердец, прозрачных и твердых как алмаз; для них возведенный на престол король остается королем до смерти, потому что они стали рабами своей присяги в тот день, когда поклялись ему в верности. Такие люди могут страдать, бояться и даже ненавидеть в государе человека, но они терпеливо и преданно ждут, пока Бог освободит их от данной клятвы, призвав на небеса своего избранника.
Этих преданных людей легко узнать во все времена и эпохи. Они лицемерят гораздо меньше других, рассуждают менее высокопарно; смиренно и почтительно поклонившись королю, вновь возведенному на престол, они отходят в сторону и, стоя во главе своих вассалов, ждут часа, когда смогут сложить головы за короля – этого живого олицетворения принципа монархии.
Некая холодность приема, оказанного дону Педро его верными слугами, объяснялась лишь присутствием мавров, которые приобрели большее, чем прежде, влияние на короля.
Воинственная порода сарацин роилась вокруг Мотриля, словно пчелы вокруг улья с маткой. Они чувствовали, что этот хитрый и дерзкий мавр связывает их с христианским королем, смелым и коварным; поэтому сарацины создали грозный вооруженный отряд и, понимая, что гражданская война им очень выгодна, присоединились к королю с восторгом и энергией, которыми, завидуя маврам, в немом бездействии восхищались его подданные-христиане.
Вместе с казной к дону Педро снова вернулось богатство, и он сразу же окружил себя блистательной роскошью; вид ее пленяет сердца, а выгода от нее смиряет честолюбие. Поскольку в Сеговию скоро должен был прибыть принц Уэльский, было решено, что состоятся великолепные – блеск их был призван затмить эфемерную пышность коронации дона Энрике – празднества, которые вернут доверие народа и заставят его признать, что настоящий король лишь тот, кто много имеет, но гораздо больше тратит.
Мотриль же продолжал осуществлять давно задуманный план, который заключался в том, чтобы покорить чувства дона Педро: ведь разум короля уже был под властью мавра. Каждую ночь слышалась гузла Аиссы, все песни которой, как у истинной дочери Востока, были песнями любви; звуки гузлы, доносимые легким ветерком, скрашивали одиночество короля и успокаивали его кровь, разгоряченную лихорадкой неистовых сладострастных видений, навевая короткий, как это свойственно неутомимым южным натурам, сон.
Каждый день Мотриль ждал, что дон Педро хоть словом выдаст ту тайную страсть, которая, как чувствовал мавр, сжигает короля, но этого единственного слова мавр ждал напрасно.
И вот однажды дон Педро резко, без всякого повода – казалось, ему пришлось сделать страшное усилие, чтобы разорвать узы, словно сковывавшие его уста, – сказал:
– Вот видишь, Мотриль, вестей из Севильи нет.
В этих словах раскрылись все тревоги дона Педро. Севилья означала память о Марии Падилье.
Мотриль вздрогнул: ведь утром он задержал на дороге из Толедо в Сеговию и бросил в тюрьму Адайю, раба-нубийца, который нес королю письмо от Марии Падильи.
– Вестей нет, сир, – сказал мавр.
Дон Педро погрузился в мрачную задумчивость. Потом он, словно отвечая самому себе, тихо проговорил:
– Значит, душу этой женщины покинула всепоглощающая страсть, ради которой я принес в жертву брата, жену, честь и корону, ибо ее хочет сорвать у меня с головы не только бастард Энрике, но и коннетабль.
И он сделал угрожающий жест, не обещавший ничего хорошего ни Дюгеклену, ни Энрике, если злосчастная судьба отдаст их когда-нибудь в его руки.
Мотриль не придал значения этой угрозе короля: его занимали совсем другие мысли.
– Донья Мария, – сказал он, – сильнее всего желала стать королевой, а в Севилье могли поверить, будто ваша светлость короны лишилась…
– Это ты мне уже говорил, Мотриль, но я тебе не верил.
– И снова повторяю, сир. Надеюсь, теперь поверите. Я вам говорил об этом тогда, когда вы приказали мне отправиться в Коимбру за несчастным доном Фадрике…
– Мотриль!
– Вам известно, что я без особой спешки, скажу даже, не без отвращения, исполнил ваш приказ.
– Замолчи, Мотриль! Молчи! – воскликнул дон Педро.
– Тем не менее, государь, ваша честь была сильно задета.
– Да, несомненно, хотя приписывать Марии Падилье эти преступления нельзя; во всем виноваты эти гнусные люди.
– Возможно. Но без Марии Падилье вы ничего не узнали бы, потому что я молчал, хотя и знал обо всем.
– Значит, она меня любила, раз ревновала!
– Вы король, а после смерти несчастной Бланки она рассчитывала стать королевой. Кстати, можно ревновать, не любя. Вы же ревновали донью Бланку, государь, но разве вы ее любили?
И вдруг, как будто сказанные Мотрилем слова оказались условным сигналом, послышались звуки гузлы; песня Аиссы звучала слишком далеко, чтобы можно было разобрать слова, но ласкала слух дона Педро, словно нежный шепот.
– Аисса? – пробормотал король. – Это поет Аисса?
– По-моему, сеньор, да, – ответил Мотриль.
– Это твоя дочь или любимая рабыня? – рассеянно спросил дон Педро. Мотриль с улыбкой отрицательно покачал головой.
– О нет, – сказал он. – Перед дочерью не встают на колени, сир, перед купленной за золото рабыней мудрый, старый человек не станет в мольбе заламывать руки.
– Кто же она такая? – вскричал дон Педро, чьи мысли, мгновенно устремившись к загадочной девушке, словно прорвали сдерживающие их плотины. – Ты что, смеешься надо мной, проклятый мавр, или просто прижигаешь меня каленым железом ради удовольствия видеть, как я корчусь, словно бык?
Мотриль отпрянул почти в испуге, таким грубым и резким был выкрик короля.
– Отвечай же! – вскричал дон Педро, охваченный одним из тех приступов ярости, что превращали человека в дикого зверя, а короля – в безумца.
– Сир, я не смею вам этого сказать.
– Тогда приведи ко мне эту женщину, – воскликнул дон Педро, – чтобы я сам ее спросил.
– Помилуйте, сеньор! – взмолился Мотриль, словно испугавшись подобного повеления.
– Здесь повелеваю я, и такова моя воля!
– Сеньор, будьте милосердны!
– Пусть она немедленно явится сюда, или я сам выволоку девушку из ее покоев.
– Сеньор, – обратился к королю Мотриль; он выпрямился, спокойный и торжественно-серьезный, – Аисса слишком благородной крови, чтобы люди смели прикасаться к ней грешными руками. Не оскорбляйте Аиссу, король дон Педро!
– Но чем же может оскорбить мавританку моя любовь? – спросил король дон Педро. – Мои жены были королевскими дочерьми, но мои любовницы часто были не ниже моих жен.
– Сеньор, – объяснил Мотриль, – будь Аисса моей дочерью, как считаешь ты, я сказал бы: «Король дон Педро, пощади мое дитя, не позорь своего слугу». И, наверное, вняв голосу столь многих и настойчивых просьб, ты пощадил бы мое дитя. Но в жилах Аиссы течет кровь более благородная, нежели кровь твоих жен и любовниц; Аисса знатнее любой принцессы, она дочь султана Мухаммеда, потомка великого пророка Магомета.[142] Как видишь, Аисса больше чем принцесса, больше чем королева, и я велю тебе, король дон Педро, чтить Аиссу».
Дон Педро замолчал, подавленный гордой властностью мавра.
– Дочь Мухаммеда, султана Гранады! – прошептал он.
– Да, дочь Мухаммеда, султана Гранады, убитого тобой. Я служил этому великому государю, как тебе известно, девять лет назад; когда твои солдаты грабили его дворец, какой-то раб тащил ее, завернув в плащ, чтобы продать, я спас Аиссу. Тогда ей не было и семи лет; ты прослышал, что я был преданным советником, и призвал меня ко двору. Ты мой повелитель, величайший из великих, и я повиновался. Но ко двору нового повелителя вместе со мной последовала и дочь моего прежнего господина; она считает меня отцом; несчастное, воспитанное в гареме дитя так никогда и не видела величественный лик султана, которого больше нет на свете! Теперь ты знаешь мою тайну, ее вырвала у меня твоя грубость. Но помни, король дон Педро, что я, раб, исполняющий твои малейшие прихоти, все вижу и брошусь на тебя, как змея, защищая единственное, что мне дороже всего на свете.
– Но я люблю Аиссу! – в бешенстве воскликнул дон Педро.
– Ты можешь ее любить, король дон Педро, у тебя есть на это право, потому что Аисса тоже королевской крови; ты можешь ее любить, но сам добейся любви Аиссы, – продолжал мавр, – я мешать тебе не буду. Ты молод, красив, могуществен. Почему бы этой юной девственнице не полюбить тебя и по любви не отдать тебе то, чего ты хочешь добиться силой?
Выпустив, словно парфянскую стрелу,[143] эти слова, которые пронзили сердце дона Педро, Мотриль попятился к двери и приподнял служивший портьерой гобелен.
– Но она будет меня ненавидеть, она должна меня возненавидеть, если узнает, что я убил ее отца.
– Я никогда не говорю дурного о господине, которому служу, – сказал Мотриль, придерживая поднятый гобелен. – Аиссе известно только, что ты добрый король и великий султан.
Мотриль опустил гобелен, а дон Педро несколько минут прислушивался, как гулко стучат по плитам пола размеренные и степенные шаги Мотриля, который шел к Аиссе.







