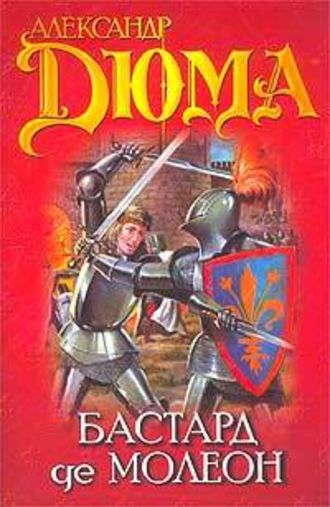
Александр Дюма
Бастард де Молеон
IX. Гонец
На исходе второго дня пути перед взорами войска, ведомого Энрике де Трастамаре и Бертраном Дюгекленом, предстал маленький городок Калаорра. Войско, которое за два дня перехода было набрано из небольших, рассеянных по окрестностям отрядов, насчитывало около десяти тысяч солдат.
От попытки завладеть Калаоррой, сторожевым аванпостом Бургоса, зависело почти все. Этот исходный пункт, который давал полное представление о настроениях в Старой Кастилии, действительно решал успех или провал кампании. Задержка дона Энрике перед Калаоррой означала войну; если с Калаоррой не возникало никаких трудностей, то перед доном Энрике открывался путь к победе.
Кстати, армия была в отличном настроении, поскольку все единодушно считали, что дон Педро, перевалив через горы, пошел на соединение с корпусом арагонских и арабских частей.
Городские ворота были заперты; их охранял пост солдат; по крепостной стене расхаживали дозорные с арбалетами на плечах; город не выглядел угрожающе, но к обороне был готов.
Дюгеклен подвел свою небольшую армию прямо к городским укреплениям; до них легко могла долететь стрела. После этого, приказав трубить общий сбор и поднять знамена, он сказал речь – она была проникнута бретонской самоуверенностью и дипломатическим искусством человека, воспитанного при дворе Карла V, – которую закончил тем, что вместо убийцы, святотатца и недостойного рыцаря дона Педро провозгласил дона Энрике де Трастамаре королем обеих Кастилии, Севильи и Леона.
Услышав эти торжественные слова, которые Бертран произнес во всю мощь своих легких, десять тысяч воинов взметнули в воздух обнаженные мечи, и под самыми прекрасными на свете небесами, в час, когда солнце уже заходило за горы Наварры, вся Калаорра с высоких крепостных стен могла созерцать величественное зрелище падения власти одного короля и рождение власти другого.
Произнеся речь и дав армии высказать свое одобрение, Бертран повернулся лицом к городу, как бы спрашивая его мнение.
Жители Калаорры, хотя были окружены крепкими стенами, имели много оружия и съестных припасов, долго раздумывать не стали.
Коннетабль выглядел слишком внушительным. И не менее угрожающими казались его воины, взметнувшие вверх пики. Горожане, видимо, рассудили, что одной мощи этой кавалерии хватит, чтобы снести городские стены, и гораздо проще избежать беды, открыв ворота. Поэтому на приветствия армии они ответили восторженным криком «Да здравствует дон Энрике де Трастамаре, король обеих Кастилии, Севильи и Леона!»
Эти первые здравицы, провозглашенные по-кастильски, глубоко тронули Энрике; подняв забрало, он без свиты подъехал к городским стенам.
– Лучше провозглашайте «Да здравствует добрый король Энрике!» – крикнул он, – ибо я буду столь добр к Калаорре, что она никогда не забудет, как первой приветствовала меня в качестве короля обеих Кастилии.
И сразу восторг сменился каким-то неистовством; ворота распахнулись так быстро, словно фея коснулась их волшебной палочкой; толпы горожан с женщинами и детьми высыпали из города, смешавшись с солдатами короля.
Через час началось одно из тех пышных празднеств, расщедриться на которые способна лишь природа; цветы, вина и мед этой прекрасной земли, гусли, голоса женщин, восковые факелы, звон колоколов, пение священников – все это ночь напролет кружило головы нового короля и его спутников.
Правда, Бертран собрал бретонцев на совет и сказал им:
– Ну вот, граф дон Энрике де Трастамаре теперь король, хотя и не коронован. А вы опора не безродного наемника, а государя, владеющего землями, вотчинами и правом даровать титулы. Держу пари, Каверлэ еще пожалеет, что ушел от нас.
Затем Дюгеклен (его всегда слушали внимательно не только потому, что он был главнокомандующим, но и потому, что человек он был осмотрительный, воин храбрый и опытный) изложил план действий, то есть поведал о своих надеждах, которые сразу же увлекли всех участников совета.
Он заканчивал речь, когда ему доложили, что король просит пожаловать к себе коннетабля, а также бретонских командиров и ожидает своих верных союзников в ратуше Калаорры; этот дворец был предоставлен новому суверену. Бертран немедленно принял это приглашение. Энрике уже восседал на троне, и золотое кольцо, знак королевского достоинства, красовалось на султане его шлема.
– Господин коннетабль, – сказал он, протягивая Дюгеклену руку, – вы сделали меня королем, а я делаю вас графом; вы даровали мне королевство, а я жалую вас поместьем; благодаря вам, я теперь зовусь Энрике де Трастамаре, король обеих Кастилии, Севильи и Леона, а вы, благодаря мне, зоветесь Бертраном Дюгекленом, коннетаблем Франции и графом Сорийским.
Троекратное «Ура!» командиров и солдат подтвердило, что король не только сделал жест признательности, но и совершил акт справедливости.
– Что касается вас, благородные капитаны, – продолжал король, – то мои дары не будут достойны ваших заслуг, но ваши победы, увеличивая мои владения и богатства, вас тоже сделают сильнее и богаче.
Пока он раздарил им свою золотую и серебряную посуду, конскую упряжь и все, что еще оставалось ценного в ратуше Калаорры, а также назначил губернатором провинции калаоррского бургомистра.
Потом, выйдя на балкон, король повелел раздать солдатам восемьдесят тысяч золотых экю, которые у него оставались. М, показав на пустые сундуки, сказал:
– Советую вам о них не забывать, потому что мы наполним их в Бургосе.
– На Бургос! – закричали солдаты и командиры.
– На Бургос! – подхватили горожане, для кого эта ночь, проведенная в веселье, обильных возлияниях и дружеских объятиях, стала тяжелым испытанием братства, и их благоразумие подсказывало, что нельзя допустить, чтобы этим братством злоупотребляли.
А тем временем наступил новый день; армия была готова к доходу; над треугольными рыцарскими флагами всех кастильских и бретонских отрядов уже развевалось королевское знамя, когда у главных ворот Калаорры послышался громкий шум и крики людей, стекавшихся к центру города, возвестили о важном событии.
Этим событием был приезд гонца. Бертран вышел на площадь; Энрике гордо выпрямился, сияя от радости.
– Пропустите его, – приказал король. Толпа расступилась.
И все увидели смуглого, закутанного в белый бурнус всадника на арабском скакуне. Из ноздрей коня валил пар, грива развевалась, он нервно подрагивал на тонких, как стальные клинки, ногах.
– Могу я видеть графа дона Энрике? – спросил всадник.
– Вы хотите сказать, короля? – воскликнул Дюгеклен.
– Мне известен лишь один король, дон Педро, – сказал араб.
«Этот хоть не кривит душой», – про себя прошептал коннетабль.
– Хорошо, – сказал Энрике, – ближе к делу. Я тот, с кем вы желаете говорить.
Гонец, не слезая с коня, поклонился.
– Откуда вы приехали? – спросил дон Энрике.
– Из Бургоса.
– Кто вас послал?
– Король дон Педро.
– Дон Педро в Бургосе? – вскричал Энрике.
– Да, сеньор, – ответил гонец. Энрике с Бертраном снова переглянулись.
– И чего же хочет дон Педро? – спросил Энрике.
– Мира, – сказал араб.
– Ну и ну! – воскликнул Бертран, в котором честность сразу же заглушала любую корысть. – Это добрая весть.
Энрике нахмурился.
Аженор вздрогнул от радости: для него мир означал свободу искать и найти Аиссу.
– И на каких же условиях нам предлагается этот мир? – резким голосом спросил Энрике.
– Ответьте, ваша милость, что вы, как и мы, желаете мира, – сказал гонец, – и об условиях вы легко сговоритесь с королем, моим повелителем.
Однако Бертран не забывал о той миссии, которую ему поручил король Карл V – отомстить дону Педро и уничтожить отряды наемников.
– Вы сможете принять предложение мира только тогда, когда на вашей стороне будет достаточно преимуществ, чтобы условия эти были выгодны, – сказал он Энрике.
– Я тоже так думал, но ждал вашего согласия, – живо откликнулся Энрике, который содрогался при мысли, что ему придется делиться тем, чем он жаждал владеть безраздельно.
– Каков ответ вашей милости? – спросил гонец.
– Ответьте за меня, граф Сорийский, – попросил король.
– Извольте, государь, – поклонился Дюгеклен.
Потом, обернувшись к гонцу, сказал:
– Господин герольд, возвращайтесь к вашему повелителю и передайте ему, что условия мира мы обсудим, когда будем в Бургосе.
– В Бургосе! – вскричал гонец, в голосе которого слышалось больше страха, нежели изумления.
– Да, в Бургосе.
– В этом большом городе, который удерживает со своей армией король дон Педро?
– Именно, – подтвердил коннетабль.
– Вы тоже так думаете, сеньор? – спросил герольд, повернувшись к Энрике де Трастамаре. Тот утвердительно кивнул.
– Да хранит вас Бог! – воскликнул гонец, покрывая голову полой своего плаща.[140]
Потом, так же почтительно, как в начале беседы, поклонившись дону Энрике, он повернул коня и шагом поехал сквозь толпу, которая, обманутая в своих надеждах, безмолвно и неподвижно стояла по сторонам.
– Скачите быстрее, господин гонец, – крикнул Бертран, – если не хотите, чтобы мы оказались в Бургосе раньше вас.
Но всадник, не повернув головы и даже не подав виду, будто эти слова обращены к нему, неуловимым движением перевел коня с размеренного хода на резвый шаг, а потом помчался таким бешеным галопом, что, когда бретонский авангард вышел из ворот Калаорры, направляясь в Бургос, его уже не было видно с крепостных стен.
Отдельные новости разносятся по воздуху, словно гонимые ветром пылинки; эти новости подобны дыханию, запаху, лучу света. Как вспышки молнии, они долетают до людей, предвещая им что-то, ослепляя их. Никто не способен объяснить тот феномен, что человек, находясь в двадцати льё от места события, знает о нем. И то, о чем мы только что рассказали, уже было известно всем. Может быть, наука, которая глубоко изучит эту проблему, когда-нибудь не будет даже снисходить до ее объяснения и признает аксиомой то, что сегодня мы считаем человеческой тайной.
Но как бы там ни было, вечером того дня, когда дон Энрике вместе с коннетаблем вступил в Калаорру, новость о провозглашении Энрике королем обеих Кастилии, Севильи и Леона достигла Бургоса, куда сам дон Педро вошел всего четверть часа назад.
Какой орел, пролетая в небе, выронил ее из когтей? Никто не может ответить на это, но в считанные мгновения весь город уже уверовал в нее.
Сомневался лишь дон Педро. Мотриль вынудил его согласиться со всеми, заметив:
– Боюсь, что так оно и есть. Это должно было произойти, значит, и произошло.
– Но даже если предположить, что этот бастард занял Калаорру, – сказал дон Педро, – вовсе не обязательно, что он провозглашен королем.
– Если он не стал королем вчера, – возразил Мотриль, – то наверняка станет сегодня.
– Тогда выступим против него и объявим войну, – предложил дон Педро.
– Ни в коем случае! – воскликнул Мотриль. – Мы останемся здесь и заключим мир.
– Заключим мир?
– Да, мы даже купим его, если возникнет необходимость.
– Молчи, несчастный! – в бешенстве вскричал дон Педро.
– Неужели вам, государь, так трудно всего-навсего пообещать им мир? – с недоумением спросил Мотриль.
– Ага! Вот куда ты клонишь! – воскликнул дон Педро, начавший, наконец, понимать Мотриля.
– Разумеется, – продолжал Мотриль. – Чего хочет дон Энрике? Королевство! Дайте ему королевство таких размеров, какое вы сочтете нужным; потом вы сбросите Энрике с трона. Если вы сделаете Энрике королем, то он перестанет опасаться человека, давшего ему корону. Ну какая вам выгода, позвольте спросить, от того, что в чужих краях вас все время подстерегает соперник, который, как молния, может поразить вас неизвестно когда и где? Выделите дону Энрике часть королевства, границы которой вам хорошо знакомы; поступите с ним, как с осетром, которого вроде бы отпускают на волю в большой садок. Но ведь каждый знает, где можно легко поймать осетра в этом специально созданном для него водоеме. А если вы будете ловить осетра в открытом море, он всегда от вас ускользнет.
– Верно говоришь, – сказал дон Педро, прислушиваясь к Мотрилю с большим вниманием.
– Если он попросит у вас Леон, – продолжал Мотриль, – отдайте ему Леон; ведь чем быстрее он его получит, тем быстрее ему надо будет вас отблагодарить. Тут-то он на день, на час, на десять минут окажется рядом с вами, за вашим столом, у вас под рукой. Такого случая фортуна никогда не подарит вам до тех пор, пока вы воюете друг против друга. Говорят, он в Калаорре; вот и отдайте ему все земли от Калаорры до Бургоса, это лишь приблизит вас к нему.
Дон Педро превосходно понимал Мотриля.
– Да, – глубоко задумавшись, прошептал он, – именно так я и добрался до дона Фадрике.
– Вот видите, – сказал Мотриль, – а я уж было подумал, что вы забыли обо всем.
– Хорошо, – сказал дон Педро, положив руку на плечо Мотрилю, – я с тобой согласен.
И король послал к дону Энрике одного из тех неутомимых мавров, для которых время измеряется теми тридцатью льё, что за день преодолевают их кони.
Мотриль был уверен, что Энрике примет предложение заключить мир, хотя бы в надежде отнять у дона Педро вторую половину королевства после того, как получит первую. Но мавр и король строили свои расчеты, забыв о коннетабле. Поэтому, получив ответ из Калаорры, дон Педро и его советники сильно огорчились, поскольку преувеличивали последствия отказа Энрике.
Правда, дон Педро располагал армией, хотя армия не так сильна, когда осаждена. У него оставался Бургос, но вопрос заключался в том, верны ли ему горожане.
Мотриль не скрыл от дона Педро, что жители Бургоса пользовались репутацией больших любителей всевозможных новшеств.
– Мы сожжем город, – сказал дон Педро. Мотриль покачал головой.
– Бургос не из тех городов, что позволяют безнаказанно сжечь себя, – сказал он. – Во-первых, в нем живут христиане, которые ненавидят мавров, а мавры – ваши друзья; во-вторых, живут мусульмане, которые ненавидят евреев, а евреи – ваши казначеи; наконец, живут евреи, которые ненавидят христиан, а в вашей армии много христиан.
Эти люди будут драться друг с другом вместо того, чтобы сражаться с войсками дона Энрике; они могут сделать лучше: каждая из трех партий выдаст две другие на растерзание претенденту. Послушайтесь меня, государь, найдите предлог, чтобы оставить Бургос, я советую вам уехать из города, пока до него не дошла новость о провозглашении королем дона Энрике.
– Если я покину Бургос, то навсегда потеряю этот город, – возразил дон Педро, терзаемый сомнениями.
– Не скажите. Когда вы вернетесь и осадите Бургос, дон Энрике окажется в нашем положении, и, если, как вы считаете, сейчас преимущество на его стороне, тогда оно будет на вашей. Вы должны отступить, ваша милость.
– Значит, бежать! – вскричал дон Педро, потрясая кулаком.
– Тот, кто намерен вернуться, не беглец, государь, – возразил Мотриль. Дон Педро все еще колебался, но скоро сам удостоверился в том, в чем не могли его убедить советы Мотриля. Он видел, что у дверей домов собираются кучки людей, а еще больше народа скапливается на городских перекрестках, и услышал, как из толпы кто-то крикнул:
– Теперь наш король – дон Энрике!
– Мотриль, ты был прав, – сказал он. – Я тоже думаю, что пора уезжать. И король дон Педро покинул Бургос в тот самый момент, когда на гребне Астурийских гор появились знамена дона Энрике де Трастамаре.
X. Коронование
Жители Бургоса, которые трепетали при мысли, что они станут причиной раздора в борьбе соперников за престол, и сознавали, что в этом случае им придется оплачивать расходы на войну, едва узнав о бегстве дона Педро и завидев знамена дона Энрике, мгновенно превратились в пылких приверженцев нового короля, и эту резкую перемену их взглядов легко было понять.
Тот, кто в гражданских войнах проявляет даже мимолетную слабость, сразу делается намного слабее, чем он есть на самом деле. Ведь гражданская война – не только столкновение интересов, но и борьба самолюбий. Отступить в этой войне – значит потерять свою репутацию. Поэтому совет, данный Мотрилем – у мавров совсем иные понятия о доблести, чем у нас, – оказался совершенно неприемлемым для христиан, составлявших все-таки большинство населения Бургоса.
Магометане и евреи, надеясь извлечь для себя кое-какую выгоду из смены власти, присоединились к христианам, признав дона Энрике королем обеих Кастилии, Севильи и Леона, а короля Педро объявив низложенным.
И вот дон Энрике – его вел под руку епископ Бургосский – под громкие приветствия народа явился во дворец, где еще чувствовалось присутствие дона Педро.
Своих бретонцев Дюгеклен расположил в Бургосе, а за городскими стенами поставил наемные отряды французов и итальянцев, которые остались верны коннетаблю, когда ушли англичане. Таким образом Дюгеклен мог контролировать город, ни в чем не стесняя жителей. Кстати, была введена строжайшая дисциплина: у бретонцев даже за мелкую кражу полагалась смертная казнь, а у наемников били воров хлыстами. Коннетабль понимал, что победа, которая столь легко им далась, требует бережного к себе отношения, и придавал важное значение тому, чтобы новые сторонники узурпации короны приняли его солдат.
– Теперь, ваша милость, я прошу вас проявлять больше торжественности, – сказал коннетабль дону Энрике. – Пошлите за графиней, вашей супругой, которая в Арагоне с нетерпением ждет вестей от вас; она тоже должна короноваться. В торжественных церемониях, я наблюдал это во Франции, самое благоприятное впечатление на людей производят женщины и золотая парча. И поэтому многие люди, расположенные к вам отнюдь не дружески – они просто желают избавиться от вашего братца, – воспылают ревностной преданностью к новой королеве, тем более если она, как говорят, «одна из красивейших и утонченнейших дам христианского мира».
– В этом, – прибавил славный коннетабль, – ваш брат не сможет соперничать с вами, потому что свою жену он убил. Когда люди убедятся, какой вы добрый супруг Хуане Кастильской, каждый из них будет вправе напомнить дону Педро о том, как он поступил с Бланкой Бурбонской.
Король улыбнулся в ответ на эти слова, справедливость которых не мог не признать; они, кстати, радуя его, вместе с тем льстили его гордыне и страсти к пышной роскоши. Посему королева и была вызвана в Бургос. Тем временем город украсили гобеленами, по стенам развесили гирлянды цветов, а мостовые, засыпанные пальмовыми листьями, скрылись под ярко-зеленым ковром. Со всех сторон сбегались без оружия радостные кастильцы; они, хотя «Оде и не сделали своего выбора, ставили окончательное признание дона Энрике королем в зависимость от того впечатления, какое произведут на них блеск церемонии и щедрость их нового властелина.
Когда сообщили о прибытии королевы, Дюгеклен во главе – отряда бретонцев выехал встречать ее за целое льё от города.
Она действительно была прекрасна, графиня Хуана Кастильская, чью красоту еще больше подчеркивали пышность роскошного наряда и поистине королевского выезда.: Хроника сообщает, что она ехала на колеснице, покрытой золотой парчой и богато убранной драгоценными камнями. Рядом с ней были три сестры короля, а за ними в столь же великолепных экипажах следовали придворные дамы. Вокруг этих роскошных экипажей тучей вились пажи – их костюмы ослепляли шелком, золотом и драгоценностями, – грациозно гарцуя на прекрасных андалусских лошадях; эта порода, скрещенная с арабскими скакунами, дает коней быстрых, как ветер, и гордых, как сами кастильцы. – Этот величественный кортеж ослепительно сиял на солнце, под лучами которого ярко вспыхивали витражи собора и нагревались пары египетского ладана, сжигаемого в золотых – кадильницах монахинями.
Смешавшись с христианами, что стояли вдоль пути королевы, мусульмане, разодетые в свои самые богатые кафтаны, с восхищением разглядывали знатных и красивых дам, чьи прозрачные, развевающиеся под дыханием легкого ветерка уали защищали их лица от солнца, но не от жадных взоров.
Едва королева заметила, что к ней навстречу едет Дюгеклен – коннетабля легко можно было узнать по золоченым доспехам и большому мечу, который оруженосец нес перед ним на голубой бархатной подушке с вышитыми золотыми лилиями, – она приказала остановить упряжку белых мулов, везущих ее колесницу, и быстро сошла с высокого сиденья.
По примеру королевы, правда не зная намерений Хуаны Кастильской, сестры короля и придворные дамы тоже вышли из экипажей.
Королева пошла навстречу Дюгеклену, который, увидев ее, соскочил с коня. Тогда Хуана Кастильская ускорила шаг и, как гласит хроника, протянув вперед руки, подошла к коннетаблю.
Дюгеклен молниеносно отстегнул и откинул за спину забрало шлема. Поэтому королева, видя коннетабля с непокрытой головой, обняла его за шею и, как далее повествует хроника, поцеловала, словно нежно любящая сестра.
– Это вам, прославленный коннетабль, я обязана своей короной! – воскликнула она с глубоко искренним волнением, которое тронуло сердца всех присутствующих. – В мой дом пришла эта нежданная слава! Благодарю вас, шевалье, и да вознаградит вас Бог! Я же могу лишь сравняться в благодарности с той услугой, что вы мне оказали.
Эти слова, а особенно поцелуй королевы, столь почетный для славного коннетабля, толпы народа и солдат встретили громкими одобрительными возгласами и рукоплесканиями.
– Ура славному коннетаблю! – кричали все вокруг. – Радости и счастья королеве Хуане Кастильской!
Сестры короля, злорадные и насмешливые девицы, не были столь восторженны. Они украдкой поглядывали на коннетабля (внешность этого доброго рыцаря они, естественно, сравнивали с тем идеалом шевалье, который они себе создали, и она возвращала их к действительности, что была у них перед глазами) и перешептывались:
– Неужели это и есть знаменитый воин? Смотрите, какая у него грубая голова!
– А вы заметили, графиня, какие у него сутулые плечи? – спросила средняя из трех сестер.
– И ноги у него кривые, – заметила младшая.
– Пусть так, зато он сделал королем нашего брата, – напомнила старшая, положив конец этому осмотру, столь невыгодному для славного рыцаря Дюгеклена.
Суть в том, что великая душа знаменитого рыцаря, подвигнувшая его на свершение множества прекрасных и благородных дел, была заключена в мало ее достойное тело; его огромная голова бретонца – она всегда была преисполнена здравых мыслей и великодушного упрямства – могла показаться заурядной любому, кто не удосужился бы заметить того огня, который горел в его черных глазах, гармонического соединения мягкости и твердости в чертах его лица.
Ноги у него, разумеется, были колесом; но ради славы Франции доблестный рыцарь почти всю жизнь провел в седле, и никто, если он не пренебрегал благодарностью, не мог упрекнуть коннетабля за эти ноги, ставшие кривыми потому, что они крепко сжимали бока его доброго коня.
Вероятно, средняя сестра короля справедливо отметила сутулость плеч Дюгеклена, но на этих покатых плечах держались мускулистые руки, которые в схватке одним ударом валили с ног лошадь вместе со всадником.
Толпа не могла сказать о коннетабле: «Это красивый сеньор!», она говорила: «Это грозный сеньор!»
После первого обмена любезностями и благодарностями, королева села верхом на белого арагонского мула; он был покрыт расшитой золотом попоной, на нем была золотая, украшенная драгоценностями сбруя – подарок бургосских горожан.
Королева попросила Дюгеклена идти по левую руку от нее, выбрав кавалерами сестер короля мессира Оливье де Мони, Заику Виллана и еще пятьдесят рыцарей, что вместе с придворными дамами пошли пешком.
В таком порядке они прибыли во дворец; король ждал их под балдахином из золотой парчи; рядом с ним стоял граф де Ламарш, утром приехавший из Франции. Завидев королеву, король встал; королева спешилась с мула и преклонила перед ним колени. Король поднял Жанну Кастильскую и, поцеловав ее, громко воскликнул:
– В монастырь де Лас Уэльгас!
Там и должна была состояться коронация.
С криками «Ура!» все последовали за королевской четой.
На время этого шумного праздника Аженор вместе с верным Мюзароном укрылся в мрачном, стоящем на отшибе доме.
Правда, Мюзарон – он не был влюблен, но зато был любопытный и пронырливый, как всякий слуга-гасконец, – оставил хозяина в одиночестве и, воспользовавшись его затворничеством, облазил весь город, не пропустив ни одной церемонии. Все повидав и обо всем разузнав, он вечером вернулся домой.
Мюзарон застал Аженора разгуливающим по саду и, сгорая от нетерпения поделиться добытыми новостями, сообщил хозяину, что отныне коннетабль не только граф Сорийский, что перед тем как сесть за стол, королева попросила короля об одном одолжении и, когда он удовлетворил ее просьбу, пожаловала Дюгеклену графство Трастамаре.
– Счастливая судьба, – рассеянно заметил Аженор.
– Но это еще не все, сударь, – сказал Мюзарон, приободрившись оттого, что даже такой краткий ответ дает ему повод продолжить свой рассказ, доказывая, что его слушают. – После этого дара королевы король почувствовал, что честь его задета и – коннетабль еще не успел встать – объявил: «Мессир, графство Трастамаре – дар королевы; я же приношу свой дар и жалую вам герцогство Молиния».
– Его осыпают милостями, и это справедливо, – ответил Аженор.
– Но и это еще не все, – продолжал Мюзарон, – от щедрот короля перепало всем.
Аженор усмехнулся, подумав, что о нем, персоне не столь важной, забыли, хотя и он оказал дону Энрике кое-какие услуги.
– Всем! – воскликнул он. – Как так, всем?
– Да, сеньор, всем – командирам, офицерам и даже солдатам. Поистине, меня не перестают мучить два вопроса: во-первых, неужели Испания так велика, что в ней есть все то, что раздает король, во-вторых, неужели у этих людей хватит сил унести все, что им дали?
Однако Аженор больше не слушал его, и Мюзарон напрасно ждал ответа на свою шутку. Между тем наступила ночь, и Аженор, прислонившись к решетчатому, с узором в виде трилистников балкону (сквозь отверстия там пробивались листья и цветы, которые вились по мраморным колоннам и образовывали над окнами навес), вслушивался в отдаленный гул (Праздничного веселья, что уже затихало. Вечерний прохладный ветерок освежал его лоб, разгоряченный пылкими мыслями о любви, а резкий запах мирта и жасмина напоминал о садах мавританского дворца в Севилье и особняка Эрнотона в Бордо. Именно эти воспоминания отвлекли его от рассказов Мюзарона.
Поэтому Мюзарон, умеющий как ему было угодно влиять на настроение хозяина – это всегда легкая задача для тех, кто нас любит и знает наши тайны, – чтобы обратить на себя внимание, выбрал тему, которая, как он полагал, неминуемо отвлечет Аженора от его грустных мыслей.
– Знаете ли вы, сеньор Аженор, – спросил он, – что все эти празднества лишь прелюдия к войне и что за нынешней коронацией последует большой поход на дона Педро; это значит, что надо еще вернуть страну тому, кому дали корону.
– Ну что ж, пусть! – ответил Аженор. – И мы отправимся в этот поход.
– Идти придется далеко, мессир.
– Ладно, пойдем далеко.
– А известно ли вам, что именно там, – Мюзарон показал куда-то вдаль, – мессир Бертран намерен сгноить все отряды наемников?
– Отлично! Заодно там сгниют и наши кости, Мюзарон.
– Конечно, это для меня высочайшая честь, ваша милость, но…
– Что, «но»?
– Но вполне резонно говорят, что господин есть господин, а слуга есть слуга, то есть жалкое орудие.
– Почему же это, Мюзарон? – спросил Аженор, наконец-то с удивлением заметив, что его оруженосец говорит каким-то жалобным тоном.
– Потому что мы с вами совсем разные люди: вы благородный рыцарь и, мне кажется, лишь ради чести служите вашим господам, а я…
– Ну и что ты?..
– А я, во-первых, тоже служу вам ради чести, во-вторых, ради удовольствия находится в вашем обществе и, наконец, ради жалованья.
– Но я тоже получаю жалованье, – не без горечи возразил Аженор. – Разве ты не видел, что мессир Бертран вчера принес мне сто золотых экю от короля, нового короля?
– Видел, мессир.
– Хорошо, а разве из сотни золотых, – смеясь, спросил молодой человек, – ты не получил свою долю?
– Получил, конечно, и не долю, а всю сотню.
– Тогда ты должен прекрасно понимать, что я тоже на жалованье, раз ты его за меня получил.
– Да, но я позволю себе заметить, что платят вам не по заслугам. Сто экю золотом! Я вам назову десятки офицеров, которые получили по пятьсот, а сверх того король даровал им титулы баронов, баннере и сенешалей королевского дома.
– Ты намекаешь, что король забыл обо мне, так ведь?
– Совершенно забыл.
– Тем лучше, Мюзарон, тем лучше. Мне по душе, когда короли забывают обо мне; тогда они хотя бы не делают мне зла.
– Полноте! – воскликнул Мюзарон. – Неужели вы хотите меня убедить, будто вы рады скучать здесь, в саду, пока другие звенят на пиру золотыми кубками, обмениваясь с дамами нежными улыбками?
– Но это правда, метр Мюзарон, – ответил Аженор. – И когда я говорю вам об этом, прошу мне верить. Под этими миртами, наедине со своими мыслями, мне веселее, чем ста рыцарям, что в королевском дворце упиваются хересом.
– Быть этого не может.
– Однако это так.
Мюзарон с сожалением покачал головой:
– Я прислуживал бы вашей милости за столом, а ведь так лестно иметь право сказать, когда мы вернемся в родные края: «Я служил моему господину на пиру в день коронации графа Энрике де Трастамаре».
Аженор кивнул в ответ, печально улыбнувшись.
– Вы оруженосец бедного наемника, метр Мюзарон, – сказал он, – и будьте довольны тем, что еще живы, что вы не умерли с голоду, хотя это вполне могло бы с нами случиться, как бывало со многими. Кстати, эти сто золотых экю…
– Не сомневайтесь, они у меня, – ответил Мюзарон, – но если я их потрачу, то денег у меня не будет, и на что мы станем жить? И чем будем расплачиваться с аптекарями и лекарями, когда ваше благородное усердие на службе у дона Энрике изранит нас душевно и телесно?
– Ты славный слуга, Мюзарон, – рассмеялся в ответ Аженор, – и я дорожу твоим здоровьем. Ступай спать, Мюзарон, уже поздно, и оставь меня развлекаться на мой манер, наедине с моими мыслями. Иди, завтра ты будешь более годен для тяжелой бранной службы.
Мюзарон подчинился. Он удалился, лукаво улыбаясь, ибо полагал, что пробудил в сердце своего господина немного честолюбия, и надеялся, что оно даст свои плоды.
Тем не менее этого не произошло. Аженор, полностью отдавшись мыслям о своей любви, даже не думал о герцогствах и богатстве; он страдал от мучительной тоски, которая вынуждает нас сожалеть о любой стране, где мы были счастливы, словно о второй родине.
Вот почему Аженор так горестно вспоминал о садах алька-сара и Бордо.
И, однако, подобно тому, как в небе остается след света, хотя солнце уже зашло, слова Мюзарона оставили след в душе Аженора.
«Разве смогу я стать богатым сеньором, грозным капитаном?! Нет, ничего этого не предвещает моя судьба. У меня есть лишь страсть, силы, упорство, чтобы завоевать Аиссу – единственное мое счастье. Мне безразлично, что меня обходят при раздаче королевских милостей: все короли неблагодарны; мне безразлично, что коннетабль не пригласил меня на пир и не отличил среди других командиров: люди забывчивы и несправедливы. К тому же, как бы там ни было, если мне наскучит их забывчивость и несправедливость, я от них уйду».







