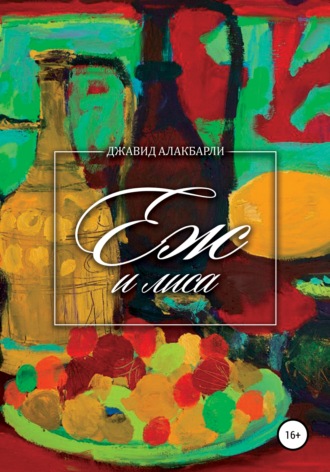
Джавид Алакбарли
Ёж и лиса
Он иногда прерывал её. Пытался что-то объяснить.
То ли ей, то ли себе самому.
– Вы знаете, что был такой фанатик – большевик, который подошёл к Фёдору Шаляпину и сказал:
– Вас надо расстрелять!
– За что?
– За талант. Я вчера слушал Вас в опере. Плакал и хлопал Вам. Все хлопали. Я только тогда понял, насколько же Вы опасны. Ведь талант уничтожает саму идею равенства. Как же мы можем быть равны, если Вы заставляете людей рыдать и рукоплескать Вам, а я не могу. Нет, выходит, равенства-то. Вот его и надо восстановить. Расстрелять Вас. И всё. Равенство будет обеспечено.
Теперь уже настала её очередь произнести:
– Какой ужас!
А потом ещё она вспоминала обрывки каких-то диалогов и разговоров из своего прошлого.
– Девушка, вы простужены? Вы так сильно кашляете.
– Это не простуда. Это – чахотка.
Всё же она нашла в себе силы поведать ему о своих сёстрах, умерших от чахотки. О брате, наложившем на себя руки. О матери и отце. О судьбе всей своей семьи. О том, какой она была влюбчивой особой в юности. О многом рассказала. Без утайки и умолчаний. Как на духу. Так, наверное, можно говорить с духовником. А его-то у неё и не было никогда. Ну, просто так уж сложилось.
Говорила она и о том, чего ей стоило не выдать себя, услышав тот странный разговор в типографии. Там почему-то были уверены, что тираж её книги определён неправильно.
– Такой тираж раскупят за полчаса. Надо делать огромный тираж и продавать эту книгу в каждой мелочной лавке.
– Почему?
– А для того, чтобы каждая женщина, желающая купить что-то по хозяйству, могла купить и эту книгу. И прожить потом, не расставаясь с этой книгой, всю оставшуюся жизнь. Ведь жить с этими стихами женщине намного легче, чем жить без них.
Вот и сегодня она вновь и вновь читала стихи. А ещё она даже ухитрилась накормить своего гостя, извиняясь за скудость угощения. А оно состояло всего лишь из блюда варёной картошки. В послеблокадном Ленинграде, где хлеб всё ещё распределяли по карточкам, это было царское угощение. Вот таковы уж оказались контрасты ленинградской командировки её Гостя. Контрасты, которые трудно было понять и постичь. Тут есть от чего потерять голову: один из его окружения покупает чёрную икру и не знает, где её хранить, а другие как норму воспринимают ужин, состоящий из одной лишь картошки.
По мере того, как она читала стихи, он просил разрешения на то, чтобы записать те или иные строчки. Ответом ему было категорическое «нет». Даже спустя много лет он не забудет отметить и то, что имело немаловажное значение и для него, и для неё.
– Наша беседа порой затрагивала интимные детали и её жизни, и моей. Мы отвлекались от литературы и искусства. Может быть, потому она и затянулась вплоть до утра следующего дня.
А ещё потом он много раз будет произносить одну и ту же фразу, отвечая на множество чрезвычайно неделикатных вопросов:
– Я не прикоснулся к ней даже пальцем. Нас всё время разделял стол. Я даже не осмелился поцеловать ей руку.
Ему было очень трудно объяснить всей этой журналистской братии, что он попал в Ленинград на истинное пиршество духа. Здесь его угощали самыми изысканными блюдами её поэтической кухни. Самым поразительным в их разъяснениях будет то, что они ни разу не коснутся того вопроса, что их разделяла пропасть в двадцать лет. В отличие от совсем необразованных людей, пристающих к ним с этими нелепыми вопросами, они прекрасно помнили историю любовницы Достоевского, бросившей его и вышедшей замуж за замечательного философа, который был младше её на те же двадцать лет.
Но их забавляла не эта разница в возрасте, а то, что эта сударыня не считала ни Достоевского достойным писателем, ни своего мужа хорошим философом. Это могла себе позволить лишь чрезвычайно неординарная женщина. Ушедшая, в конце концов, к анархистам. Им же не хотелось никуда и ни к кому уходить. Слишком важна была для них эта встреча. По многим причинам.
Может быть, все эти причины было трудно сразу же чётко сформулировать и осознать. Но за каждой из них стоял целый пласт истории литературы и истории жизни каждого из них. При этом было очень странно, что среди множества вопросов, которые они обсуждали, так и не прозвучало ни одного, касающегося такого парадокса, как «гений женского пола». А ведь именно этот феномен наложил отпечаток на всю её жизнь и на всё её творчество. А ещё она спрашивала его о том, что её всегда интересовало. Вопрос был прост:
– Неужели никто и никогда не думал о том, что её стихи положили конец эпохе мнимой наивности русских женщин?
Ответ был очевиден. Наверное, всё же нет. Это было всё-таки слишком необычно. Ребром же стоял абсолютно другой вопрос. Он был глобальным. И при всём своём величии он всегда оставался безответным. И заключался он в том: есть ли возможность для самовыражения гениального поэта, если этим поэтом является женщина?
Этот вопрос при этом включал в себя самую важную для неё дилемму. Она была убеждена, что есть всего лишь две возможности для решения проблемы поэта, появившегося на свет в женском облике. Всего два выхода. И ни один из них её никогда не устраивал. Первый был предельно прост – погибнуть, исчезнуть, умереть. Разве возможно, в общем и в целом, существование такого феномена как женщина-творец, женщина-поэт, женщина-гений? Это однозначно и безоговорочно воспринималось обществом просто как нонсенс. Как явление противоестественное. Объявлялось просто, что такого не может быть. А если оно и есть, то должно исчезнуть. Не могло быть и речи о том, чтобы женщина могла вырасти в национального поэта и заговорить от имени своего народа.
Она всегда считала, что без тайны нет поэзии. И когда её спрашивали порой:
– Трудно или легко писать стихи?
Она всегда отвечала предельно искренне:
– Если кто-то их диктует, то тогда совсем легко. А когда никто не диктует, просто невозможно.
Она просто констатировала сам факт – ей диктовали. Да, да, да. Ей её стихи всегда диктовали. Она никак не называла это явление. Просто не могла назвать. Не любила говорить ни о вдохновении, ни о музе, ни о каких-то высших силах, которые обрекли её на то, чтобы выразить в своём творчестве всё целомудрие великого языка, психологическую осложнённость женского бытия и философский пафос эпохи. Но то, что стихи приходили неведомо как и неизвестно откуда, признавала как факт. Именно в эти минуты она чувствовала, что живёт. По-настоящему живёт, переводя все обуревающие её чувства, эмоции, мысли на чеканный язык поэзии.
А ещё она была глубоко верующим человеком. Неистово верила в то, что Бог всё же убережёт её. Даже когда произносила тост за разорённый дом и просто констатировала факт того, что всё-таки Бог не спас. Именно из её православия проистекала вся её безграничная жертвенность. Для неё это была прежде всего готовность принять всё ниспосланное свыше всему её поколению и лично ей. И этот путь от «красавицы тринадцатого года», отражённой в полотнах русского авангарда, до осознания того, что она просто жертва, обречённая на страх и смертное одиночество, она прошла как свою личную Голгофу.
Ведь многие были уверены в том, что после расстрела мужа она наложит на себя руки. Её близким уже выражали соболезнование. Готовились некрологи, отражающие в себе весь её земной путь. Весть о том, что она уже покинула этот бренный мир, передавалась из уст в уста. Она нашла в себе мужество не сделать этого. Несмотря на весь тот ужас, в котором пребывала, она приняла единственно верное для неё решение – жить. Жить и до конца испить ту чашу горечи, боли и страданий, которую ей приготовила судьба. Но разве предполагала она, что после встречи с этим Гостем, горечи в этой чаше станет гораздо больше?
Второй путь был сложнее. И гораздо хуже. Женщине-гению следовало бы незамедлительно найти такого мужчину, который будет готов помочь ей. Ему бы пришлось пойти на весьма оригинальную сделку с ней и вписать её творчество в собственный манифест представлений об искусстве. Только так можно было бы обеспечить выживание женского гения и победить этот воинствующий мужской шовинизм. Шовинизм, без утайки и стеснения заявляющий, что «бабам не место в искусстве».
Но кто его знает, может существовали ещё какие-то другие неведомые ей пути. Или те, о которых она догадывалась, но никак не могла снизойти до того, чтобы примерить эти чуждые ей одеяния на себя. Скажем, смириться с теми представлениями, в которых человек, занимающийся творчеством, всегда изначально асексуален. Согласиться с тем, что ролевые функции в таком случае изначально отрицают различия по полу. Нет, это был явно не её путь.
***
Мадам и Сэр ещё несколько раз встречались, как бы договаривая то, что не успели обсудить. Содержание этих встреч порой ускользало от внимания спецслужб. Чаще всего они были вдвоём. Её вновь и вновь поражало его видение русской литературы. Она прекрасно понимала, что, по существу, такие взгляды были обусловлены тем, что он всю жизнь находился под сильным влиянием трёх великих культур: английской, еврейской и русской. Именно это и предопределяло его мировоззрение как философа. И в немалой степени способствовало тому, что во многих вопросах они изначально находились на противоположных полюсах. Ей трудно было принять многие его идеи, хотя они и обсуждали их во всех подробностях.
А ещё она вновь и вновь читала ему много стихов. И гораздо большее их количество посвятила ему, когда он уехал. Он же до конца жизни будет сокрушаться о том, что он просто недостоин того пьедестала, который она воздвигла ему в своём творчестве. Но и гордиться всем этим, безусловно, будет. Равно как испытывать чувство вины за все те гонения, которые он поневоле навлёк на неё.
И всё-таки в одну из встреч прозвучит вопрос, который рано или поздно должен был потребовать своего ответа.
– Неужели в Вашей жизни Вам так и не встретился человек, который, совсем бы немножко, но всё же помог бы Вам состояться как поэту? Хотя бы в самом начале Вашего пути?
И тут она заговорила о своём первом муже. Он был безумно в неё влюблён. Много раз делал предложение и получал отказ. Был поражён, удивлён и всё же счастлив, когда она, наконец-то, согласилась выйти за него замуж. Он безусловно сумел стать тем мужем, о котором могла бы мечтать любая феминистка. С первого дня их семейной жизни он говорил о том, что очень бы хотел, чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной. Именно с этой целью он выдал ей самостоятельный вид на жительство. И положил на её счёт немалую сумму денег. По меркам и стандартам того времени, это было очень необычно. Женился и повёз в Париж.
В Париже она всё повторяла, что «парижская живопись съела французскую поэзию». В те дни они сполна окунулись во всю эту чарующую атмосферу жизни парижской богемы. А потом многие, с кем они встречались в этом прекрасном городе, вспоминали эту бледную, темноволосую, очень стройную девушку с красивыми руками и бурбонским профилем. Они почему-то казались всем очень странной парой. Может быть, существующую между ними дисгармонию посторонние люди чувствовали острее, чем они сами. А потом всё же и они осознали это. И расстались.
Она поразила воображение одного художника, который в те дни был просто нищим, неприкаянным и никому не известным живописцем. Она случайно узнает о его посмертной славе тогда, когда он уже давно покинет этот мир. А тогда она воспринимала его просто как юношу, который просто без памяти влюбился в неё и создал шестнадцать её портретов. Потом он писал ей письма о том, что никак не может избавиться от своего чувства к ней. Уверял, что оно преследует его как наваждение. Но он не был одинок в своём восхищении. На очень многих людей в этих богемных кругах она произвела фантастическое впечатление. Муж страшно гордился этим. Знакомил с разными людьми. Заставлял читать стихи. А потом взял и уехал в Аддис-Абебу. И начал писать новый цикл своих стихов.
Она тоже погрузилась после его отъезда в мир поэзии. Стихи пошли какой-то ровной волной. Именно тогда и были написаны многие знаменитые строки, обеспечившие ей громкую славу. Ей так легко писалось, пока муж был далеко и продолжал считать, что продолжительные периоды разлуки помогают поддерживать взаимную влюблённость. А потом были встречи в знаменитой Башне. Именно тогда и там ей были сказаны столь поразившие её слова о том, что она сама не знает, что же она делает. А ещё её представляли всем присутствующим как нового поэта, открывающего нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души разных поэтов, которые писали стихи до неё. Муж вернулся. Устроил допрос на тему о том, писала ли она стихи или нет. Послушав лишь некоторые из них, он вынес свой приговор:
– Ты – поэт. Надо делать книгу.
И действительно, он помог опубликовать её первую книгу. А ещё он написал про неё, что благодаря ей ряд таких немых до сих пор существований, как женщины, наконец-таки, заговорили. Радовался тому, что женщины, разные и всякие, влюблённые и лукавые, мечтающие и восторженные, обрели в её поэзии, свой подлинный, убедительный, художественный язык. И голос.
– Говорят, что Вы никогда не умели выбирать мужчин. Извините, это не моё мнение. Но все мужчины в Вашей жизни писали стихи. Все считали, что их стихи были намного хуже Ваших. Их это, конечно же, раздражало. Мягко говоря.
– Кто знает? Ответ на всё это есть в моих стихах. Но я знаю одно. Я никогда не смогу понять и простить какие-то мелочи, на которые другие люди порой не обращают внимания. Всего один пример. Представьте себе, что человек, ещё вчера говоривший тебе слова, от которых кружится голова, называющий тебя бессмертной и мистической, может войти в комнату и, обнаружив тебя с кем-то увлечённо обсуждающей высокие материи, вдруг наотмашь ударить словами:







