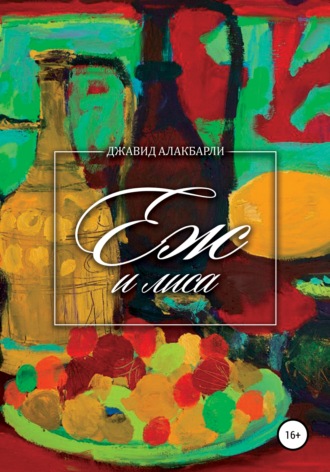
Джавид Алакбарли
Ёж и лиса
Очень быстро он осознал, что ключом к пониманию всей этой беседы является то, что, оказывается, что Гость делил всех поэтов, писателей, и философов на две категории. Одни для него были ежами, а другие – лисами. Ежи пытались всё своё творчество подчинить одной единственной идее. Глобальной, но одной. Лисы же были многогранны. Идей у них было много, и в поле воздействия каждой из них они вовлекали всё то, что действительно волновало их. Про себя он отметил, что эта идея стоит того, чтобы взять её на вооружение. Очень интересный приём того, как популярно объяснять всем, в чём суть противостояния монизма и плюрализма. А ещё они говорили о том, есть и те, кто, являясь лисой, пытается выдать себя за ежа. Самым ярким примером этого Гость считал Льва Толстого. Будучи лисой, Толстой всю жизнь пытался представить себя как ежа.
А ещё в этой беседе была масса моментов, так или иначе связанных с понятием свободы. Гость говорил о двух понятиях – о позитивной и негативной свободе. И не переставал поражаться тем извилистым маршрутам, по которым позитивная свобода может привести к тоталитаризму. И честно признавался, что он – ёж, а все его работы по истории идей так или иначе связаны с понятием свободы.
Представителю Союза писателей пришлось изрядно помучиться с этим материалом. Машинисткам было очень нелегко переносить на бумагу те термины и имена, которые были им абсолютно незнакомы. Даже когда он диктовал, стараясь медленно произносить неведомые им слова, они снова ошибались, мешая ему вовремя завершить столь непростую работу. Когда всё же весь этот нелёгкий труд был доведён до конца, ему стало очевидно, что весь текст нуждается в основательном редактировании. Ведь для того, чтобы не ошибиться в оценке этого разговора, важна была каждая деталь и мелочь.
Встреча, состоявшаяся спустя два часа, по существу, не внесла никакой ясности в суть вопроса. Ему поручили прослушать всю запись ещё и ещё раз. Пока с ежом и с лисой всё не прояснится. Но ничего, конечно же, так и не прояснилось. Да и не могло проясниться.
А ещё его мучили всё новыми и новыми вопросами.
– Кто такой этот Александр Сергеевич, которого они называют Лисой?
– Думаю, что это Пушкин.
– Но он же вроде умер.
– Да, умер.
– Как же он может им что-то рассказывать?
– Не знаю.
– А вот ещё. Какой-то Фёдор Михайлович. Он проходит у них как Ёж. Кто это?
– Мне кажется, что это Достоевский.
– Но он же тоже умер.
– Да.
– Нет, Вы просто издеваетесь над нами. Что это за речь Ежа о Лисе?
– Видимо, это речь Достоевского о Пушкине.
– Всё-таки совершенно непонятно, что у нас с вами здесь происходит. Бардак. То ли вы идиот, то ли нас за идиотов держите.
Тайна ежа и лисы так и осталась неразгаданной для работников госбезопасности. Правда, пройдёт ещё несколько лет, и Сэр опубликует в Великобритании небольшую книжицу, назвав её именно так: «Ёж и лиса». Однако, она так и не попадёт в поле зрения советских спецслужб. В отчётах же им пришлось просто напросто умолчать и о еже, и о лисе. Громов и молний хватало и без этого. Спецслужбы, в конце концов, поняли лишь одно: невозможно другим объяснить то, что непонятно им самим.
Вот они и доложили только то, что поняли сами. А то, что Самый-Самый-Самый после того, как ему положили на стол отчёт об этой ленинградской встрече, ругался отборным площадным матом, сразу же обросло огромным количеством сплетен. Верховный не стеснялся в выражениях и характеристиках. Говорят, что самым приличным из всего, что прозвучало в тот день, был вопрос:
– Ах, теперь она ещё и с шпионами встречается?!
Всё это было очень странно и непонятно. Все знали, что при желании Верховный может простить кого угодно. Равно, как и очаровать кого угодно. Яркий пример прощения – в тридцатые годы, после обращения Мадам к нему, буквально в тот же день, после его резолюции, были выпущены из тюрьмы её сын и её муж. Её слова и поручительства оказалось вполне достаточно.
А о том, как он может очаровывать иностранцев, можно было писать тома. Достаточно привести лишь одну характеристику, данную Верховному, писателем с мировой славой. Тот просил всего лишь об интервью. Но получив его, всё же, дал характеристику Вождю народов, который ответил на множество его вопросов. Это были незабываемые слова:
– Я ожидал встретить безжалостного, жестокого диктатора и самодовольного грузина-горца… Все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда после того, как я поговорил с ним… Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного: в нём нет ничего тёмного и зловещего, и именно этими его качествами следует объяснить его огромную власть в России.
«Искреннему, порядочному и честному» всё доложили. В деталях и подробностях. О еже и лисе ничего не сказали. Просто не знали, что сказать. После первой реакции с матом и перематом наступило затишье. Но тем временем наблюдение за Гостем продолжалось. Гром грянул уже после того, как тот уехал из страны. Было принято знаменитое постановление, которое ещё многие годы будут изучать в школах и вузах. Всё то, что произошло, включая все громкие обвинения этого безжалостного партийного документа, должно было просто уничтожить её. Раз и навсегда свести на нет её желание и потребность писать стихи. Но она выстояла. А стихи продолжали рождаться. Она иногда заставляла своих хороших знакомых заучивать их наизусть. На всякий случай. Ведь она прекрасно понимала, что из её жизни нельзя было исключить возможность обыска и изъятия рукописей.
***
После той памятной ночи они ещё не раз встречались. Все дальнейшие их встречи так же будут находиться в центре внимания спецслужб. Встречи тех, кого в отчётах на Лубянку называли «Мадам» и «Сэр». Её ещё иногда называли «королевой-бродягой». Но если она и была королевой, то всё это было в том воображаемом поэтическом мире, который не имел ничего общего с реальностью. А бродягой же она была потому, что у неё, фактически, уже много лет не было своего угла.
Уйдя от мужа, она потом уже никогда не претендовала на то, что где-то в огромном пространстве этого прекрасного города у неё может найтись своё собственное жилище. Вот и ютилась она до конца своей жизни в каких-то коммунальных квартирах на птичьих правах. А ещё её называли Леди. Этим может быть хотели продемонстрировать всю степень её отчуждённости от рабоче-крестьянского тандема, успешно строящего коммунизм. Вопреки всем установкам и теориям тех, кто когда-то создавал это учение. Она прекрасно знала о существовании всех этих, слегка обидных прозвищ, но никогда и никак не выражала своего отношения к ним. Ей было абсолютно всё равно.
Неравнодушна она была лишь к тому факту, что, наконец-таки, встретила человека, который станет на многие годы её воображаемым собеседником и героем её стихов. Но всё это будет потом. А пока же реальностью был всего лишь то, что встретились две неординарные личности и очень-очень-очень долго беседовали. Спустя десятки лет их разговоры обрастут таким количеством домыслов, как со стороны посторонних, так и участников этих встреч, что докопаться до того, что же на самом деле происходило в этом флигеле Фонтанного дворца Шереметьевых, будет просто невозможно. Тем не менее, даже спецслужбы отметили так удививший их факт фантастического доверия и беспредельной симпатии Мадам и Сэра друг к другу.
***
В первый день он ушёл от неё очень поздно. Было уже утро. Множество людей не раз будут спрашивать и у него, и у неё о том, была ли у них близость в эту ночь. Надо было хорошо знать его и её, чтобы осмелиться задать этот вопрос. У них была разница в двадцать лет. Физических лет. Но все прекрасно понимали, что у этой женщины, с почти уже потухшими глазами, была девичья душа. О его же обаянии и магнетизме его личности ходили легенды. В их диалогах было затронуто множество вопросов об их личной жизни. Спустя годы он признается:
– Я отвечал ей с исчерпывающей полнотой. Так, как будто она располагала неоспоримым правом знать обо мне всё.
Само это признание, фактически, означает, что огромной притягательной силе таланта никто и ничто не может противостоять. Любые крепости сдаются без боя и единого выстрела. Так было и в этом случае. И, наверное, трудно найти в каком-либо языке слово или выражение, характеризующее те чувства, под власть которых попали эти двое. Можно говорить о духовном слиянии. Можно говорить о душах, настроенных на одну и ту же волну. Можно отмечать просто факт родства и единения двух тонких натур. Многое, что можно сказать. Но всё это будет неспособно передать всю суть того, что происходило во флигеле этого дворца Шереметьевых. Что-то странное и непонятное. Но безусловно прекрасное по своей внутренней энергетике и необъяснимой магии всего происходящего.
А потом она ещё задавала вопросы о судьбе своих старых друзей, которые эмигрировали из России. Он отвечал. Рассказывал всё, что знал. Иногда это знание обжигало. А порой утешало. Разная и всякая была эта информация. Временами даже очень и очень неожиданная. Она поневоле вспоминала те далёкие двадцатые, когда к ней многие заходили проститься.
– Уезжаете? Кланяйтесь от меня Парижу.
– А Вы, не собираетесь уезжать?
– Нет. Я из России не уеду.
– Но ведь жить всё труднее?
– Да, всё труднее.
– Может стать совсем непереносимо.
– Что же делать?
– Не уедете?
– Не уеду.
А потом она будет говорить о тех, кто всё же уехал в те страшные годы:
– Те, кто уехал, спасли свою жизнь, может быть, имущество, но совершили преступление перед Россией.
Все они обижались на неё за столь резкие высказывания. Она же просто говорила то, что думала. Даже спустя годы не отреклась от своей решимости в том, что им всем надо было остаться в России и именно здесь встретить свою судьбу, какой бы тяжёлой она ни была. Но после тех, кто уехал добровольно, сделав свой осознанный выбор, появились и те, кого заставили уехать. Ведь потом был так называемый «философский пароход». Собственно говоря, это был даже не один пароход. Минимум пять рейсов доставили из Петрограда в немецкий порт известных деятелей науки и культуры вместе с их семьями. Это была целая компания борьбы с инакомыслием. Такие же пароходы отправлялись и из Одессы, и из Севастополя. А ещё были и поезда, которые также направлялись в Германию. Всем тем, кого высылали, разрешалось взять с собой одно зимнее и одно демисезонное пальто, один костюм, две смены белья, две рубашки, две пары носок или чулок. Золотые вещи, драгоценности и деньги к вывозу были запрещены. Всё было прописано предельно чётко и ясно. И за соблюдением этих предписаний чрезвычайно зорко следили.
Было немало тех, кто видел во всём этом проявление особого милосердия новой власти. Это был так называемый гуманизм по-большевистски. Постановка вопроса была предельно проста. Власть её чётко озвучила:
– Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно.
Словом, всё было так, как и должно было быть. От французского аналога всё это отличалось лишь отсутствием гильотины. Революции не нужны были ни историки, ни философы, ни литераторы. Согласно убеждениям тех, кто правил страною, высылаемые люди были абсолютно бесполезны для великого проекта построения коммунизма в отдельно взятой стране. Она лично знала многих из тех, кого высылали. Университеты очистили от профессуры, которая имела своё независимое мнение и самостоятельное суждение о событиях прошлого и настоящего.
Власть прекрасно знала, что эти люди не вели какой-либо агитации против Советской власти. Все они представляли собой яркий образец личностей, хорошо понимающих, что такое политическое или культурное кредо и в чём заключается истинная образованность. Отлучить их от процесса преподавания по каким-то формальным критериям было просто невозможно. Но власть прекрасно осознавала и то, что если они останутся в университетах, то неизбежно будут плодить себе подобных. А этого она допустить не могла. Она понимала, что когда таких людей будет слишком много, то будет пройдена некая точка невозврата и бороться со всем этим будет просто уже невозможно.
Но и это была далеко не последняя попытка избавиться от инакомыслящих. Потом, спустя годы, мало кто уже будет помнить о том, что сразу после убийства Кирова были составлены списки тех, кого сочли недостойными того, чтобы жить в этом прекрасном городе. Высылали их вместе с семьями. В трёхдневный срок осуществили изгнание из города всё ещё остававшихся здесь дворян, интеллигенции, коренных петербуржцев. Она была на этом вокзале среди провожающих. Среди всего этого ужаса она лишь растерянно улыбалась и говорила:
– Я никогда и не думала, что лично знакома с таким количеством дворян.
Возвращаясь с этих трагических проводов, она размышляла о том, что всё же есть на свете преступления без наказания и мук совести. Перед ней как бы открылась та бездна вседозволенности, которую могла себе позволить новая власть. Это были испытания пострашнее шекспировских страстей.
А ещё это была история целого поколения, прошедшего весь путь от так называемой первой русской революции до установления диктатуры победившего пролетариата. И поневоле, конечно же, всплывал вопрос о том, как велика вина интеллектуальной элиты страны, так или иначе содействовавшей тому, что страна оказалась погружённой сполна в трагедию отдельных личностей, целых семей и фантастически талантливой элиты великого народа. Многое она тогда передумала. Но не могла придти к чему-то, что могло бы что-то объяснить или оправдать. Просто плакала.
Рассказывая всё это ему, она вспоминала и то, что потом, в те же двадцатые, про неё писали, что она превратилась в ужасный скелет, одетый в лохмотья. Но всё же продолжала писать потрясающие всех стихи. Несмотря на стужу, голод и болезни. А ещё этот скелет имел мужество приходить к людям, которые помнили её такой изысканной и прекрасной, и опять-таки читать им свои стихи. Странно, но именно такие чтения способствовали тому, что уничтоженные ею в период обысков и гонений какие-то стихи всё же иногда возвращались к ней. Возвращались лишь потому, что кто-то наизусть запомнил эти столь поразившие и удивившие его строки.







