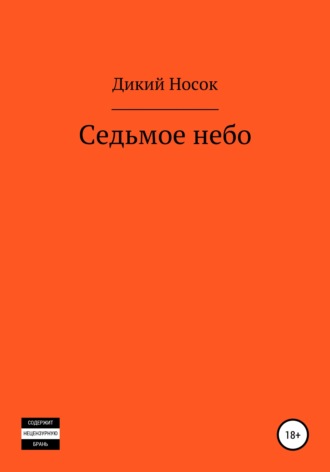
Дикий Носок
Седьмое небо
Глава 7.
Через некоторое время спутники добрались до маленького городка, на воротах которого красовалось огромное изображение улыбающегося человеческого лица, перечеркнутое крест-накрест.
«Это кто ж такой будет?» – озадачился дед.
Городок, угрожающе ощетинившийся сотнями каминных труб, был мрачноват, грязноват и выглядел запущенным. Примерно так выглядит кладовка у нерадивой хозяйки перед весенней уборкой: по углам паутина, на полках пыль и плесень. Несмотря на дивную летнюю пору цветения ни у одного дома не пестрел благоухающий цветник, не поскрипывали повешенные на крепкий сук детские качели, не упражнялись в красноречии зазывалы на рыночной площади. Вороны, оседлавшие неподвижные флюгеры, провожали пришельцев пристальными неприветливыми взглядами, порой роняя многозначительное «Кар-р-р.» И повсюду, буквально на каждой двери им встречалось то же самое перечеркнутое изображение улыбающегося человеческого лица, что и на городских воротах.
«Может быть это известный преступник?» – предположил Иван, вглядываясь в смеющееся лицо, самое обыкновенное – курносое, щекастое, добродушное. – «Не похож на злодея.»
«Может и так,» – согласился дед Богдан. – «Но что-то здесь не так, сердцем чую.»
Несмотря на середину дня, город казался удивительно пустынным. Встреченные ими горожане почему-то были сердиты, с опаской смотрели на чужаков, будто ожидая от них какого-то подвоха, и быстро шмыгали в переулки и подворотни. Так что и дороги спросить было не у кого. Пока, наконец, путешественники не набрели на открытую лавку булочника. Сам булочник – угрюмый дядька с грустно обвисшими усами и в перепачканном мукой фартуке как раз выгружал на прилавок свежеиспеченные ватрушки – сдобные, румяные, духовитые.
Груша втянула носом воздух, порывшись, вынула из кармана мелкую монетку и протянула ее булочнику: «Как пахнет вкусно. Дайте пару ватрушек, пожалуйста.» И дружелюбно улыбнулась.
Дальше произошло нечто странное и непонятное. Булочник, и так неприветливый, вдруг резко побледнел, выронил поддон с ватрушками и, скривившись, будто от зубной боли, упал на землю и покатился вниз по улице, охая на ухабах булыжной мостовой. Следом за ним золотистыми солнышками запрыгали по булыжникам мостовой ватрушки. Путешественники замерли, разинув рты от удивления.
Катящийся по улице булочник грохот производил оглушительный. На его вопли распахивались окна, а из открывающихся дверей выбегали люди. Вооружившись дубинками, пиками, а то и кольями из ограды, они обступили путешественников со всех сторон. Суровые выражения их лиц добра не предвещали. Самые отчаянные накинулись на чужаков, повалили, скрутили, плотно завязали рты цветными платками. А затем, мычащих и упирающихся, заперли в подвале городской ратуши.
Горожане оказались скоры на расправу, поэтому в подвале спутники провели всего одну ночь. Уже рано утром их вывели на спешно сооруженный на городской площади помост. Толпа горожан, безмолвная, мрачная и угрюмая, как осеннее небо, окружала его со всех сторон.
Серьезный глашатай окинул преступников пренебрежительным взглядом, развернул свиток и, прочистив горло, приступил к чтению.
«Девятого числа месяца зеленых яблок сего года чужаки вторглись в наш город и совершили самое страшное преступление – …» Глашатай выдержал трагическую театральную паузу: «смех.» Путешественники изумленно переглянулись. «А посему город приговаривает их к зашиванию ртов и пожизненному изгнанию из города.»
Толпа горожан одобрительно загудела. У Аристарха волосы встали дыбом. Приподнятую ими шляпу мигом унесло ветром. До спутников начал доходить смысл повсеместно виденного ими в городе изображения – перечеркнутого улыбающегося лица. Несчастные горожане были обречены никогда не улыбаться и не слышать даже детского смеха. Стоило лишь ребенку по детскому неразумению радостно улыбнуться при виде матери, как бедная женщина немедленно валилась на землю и начинала кататься. Поэтому детей в городе учили быть серьезными с раннего детства, никогда не балуя улыбками.
Чтобы не спровоцировать у жителей городка случайный смех, развлечений в нем не было. Совсем. Ни качелей, ни каруселей, ни народных гуляний, ни городских праздников. Бродячие цирки и театры к городку не подпускали и на пушечный выстрел.
Самое удивительное состояло в том, что покидать это проклятое место люди не торопились. Ведь если развлекаться нельзя, то что остается? Правильно, работать. Город процветал. Даже самый захудалый дом мог похвастаться облицованным дорогим камнем или глазурованной плиткой камином, добротной дубовой лестницей и резными наличниками. Не было только радости.
Глашатай отступил несколько шагов назад по помосту, пропуская еще одного человека. Это был лекарь. На принадлежность к профессии указывали скрещенные кости и череп, изображенные на его длинном кожаном фартуке. Вслед за невозмутимым лекарем следовал столь же невозмутимый ученик лет 12-ти с подносом в руках. На нем аккуратно были разложены тонкие иглы, прямые и крючком, прочные иглы из животных жил, ножницы и склянка с кукурузным спиртом для обеззараживания и анестезии. Лекарю не часто приходилось заниматься такой работой, все же глупцы в город забредали редко. Но человеком лекарь был законопослушным, а потому готовился приступить к делу.
Вперед неожиданно выступил Аристарх. Гневно сверкая глазами, он жестами показал, что хочет что-то сказать. Лекарь и глашатай переглянулись. Последнее слово приговоренного – святое дело. Особенно, если слово действительно может стать последним из-за зашитого рта. Отказать приговоренному было нельзя. А дабы он не думал засмеяться, у горла говорящего следовало держать нож. Нож держал лекарь, глашатай осторожно развязывал платок. Аристарху было не до смеха.
«Дайте мне большую красную луковицу,» – обратился он к спутникам, вытаращившим глаза от изумления. – «И пару репок. Скорее.» Все без исключения проводили поданное Аристарху недоуменными взглядами.
Тот, ни слова больше не говоря, вдруг подкинул луковицу вверх, следом за ней взлетела желтая репка, потом вторая. Овощи заходили у Аристарха в руках, словно заговоренные: вверх – вниз, из одной руки в другую. Горожане разинули рты. Первым прыснул ученик лекаря. Смешок вырвался у него непроизвольно. Опомнившись, мальчик в испуге зажал рот двумя руками. Но было поздно. Лекарь уронил нож и согнулся пополам. Потом залился радостным смехом трехлетний малыш, сидящий на руках у матери. Следом еще и еще дети. А Аристарх продолжал жонглировать овощами.
Через несколько минут на площади происходило невообразимое. Глашатай, лекарь и его ученик уже скатились от смеха по помосту. В толпе горожан там и тут начинались беспорядочные свалки. С треском сталкивались лбы, летели искры из глаз. А дети продолжали смеяться.
Тут уж путешественники не сплоховали. Спешно развязав друг другу рты и руки, они попрыгали с помоста и дали деру вон из проклятого города.
«Аристарх, ну ты голова!» – на бегу восхищался дед Богдан. – «Пропали бы без тебя ни за грош. Точно говорю, пропали бы.»
Глава 8.
Быть олухом совсем не плохо. Никто не воспринимает тебя всерьез, не возлагает никаких надежд, не дает ответственных поручений и не требует немедленно повзрослеть. Ты просто плывешь по течению, словно непотопляемое, высохшее добела собачье дерьмо в ручье, кружишься в водоворотах, огибаешь валуны, барахтаешься в прибое. Олухи, как правило, дружелюбны, послушны и неагрессивны. Обидеть их рука не поднимается. А сами они тем более в драку не полезут. Однако по глупости и безалаберности натворить бед олухи могут немало.
Особенно, если это Олух Царя Небесного. Трехметрового роста, с руками, напоминающими кувалды, любознательный и ласковый, будто теленок, Олух бродил по земле уже давно. То его видели складывающим пирамидки из камней на морском берегу, то гоняющим гусей на пруду, то ловящим ветер в ущелье среди скал. Природный энтузиазм не позволял Олуху сидеть без дела, но дела попадались сплошь хоть и масштабные, но какие-то бессмысленные. Царь Небесный отпустил своего Олуха восвояси и не приглядывал за ним ни единым глазом.
Люди Олуха почему-то не любили. Был он безобиден, но до того неловок, что какое дело ему не поручи, все пойдет наперекосяк. Стоило ему показаться на окраине какого-нибудь села, как сельчане, собравшись, немедленно начинали кидать в него камнями, гнилыми кабачками и коровьими лепешками, прогоняя бедолагу.
Олух тоже мог бы что-нибудь в них кинуть: оторвать колесо от телеги и метнуть его, срезая головы поселян, раскрошить печную трубу и швыряться в них кирпичами. Но Олух был незлобив и дружелюбен. Потоптав посевы и поломав несколько деревьев в садах (без злого умысла, только по неловкости) он, огорченный, уходил прочь.
Несмотря на это, люди ему нравились, и он очень хотел бы с ними подружиться. Люди его энтузиазм не разделяли.
Утренний туман, притаившийся в лесной лощинке, – забавная вещь. Если встать на цыпочки и высунуть из него голову, то видны деревья с зевающими на ветвях птицами. Если присесть, опустившись в туман, то видны лишь смутные очертания камней и кустов на дне сырой лощины. Играясь, Олух бред по лощине, плюхая босыми ногами по текущему в низине ручью, пока не заметил нечто любопытное.
На сухом пригорке чуть в стороне расположились на ночлег люди. Олух, стараясь не шуметь, взобрался на пригорок и присел рядом с погасшим костром. Людей было четверо. Видимо, Олуху все же не удалось прокрасться бесшумно, потому что стоило ему только присесть, девушка проснулась. Увидев сидящего у ее изголовья великана с огромными руками и маленькими злыми глазками, Груша издала такой пронзительный визг, что птицы замертво попадали с веток. Люди повскакивали и разбежались по окрестным кустам, как тараканы. Олух огорчился. Он совсем не хотел никого напугать. Он обвел грустным взглядом вокруг и тяжело вздохнул.
Люди, испуганно повыглядывав какое-то время из-за деревьев, через некоторое время осмелели. Один из них даже вернулся назад к месту ночлега и нерешительно остановился чуть поодаль. Олух обрадовался и дружелюбно улыбнулся так широко, как только смог. Крепкие желтые зубы с застрявшими между ними перьями пойманной вчера куропатки произвели на человека неожиданное впечатление. Тот подскочил и снова пустился наутек к спасительным деревьям. Олух скис. Но человек вернулся. Следом за ним еще один.
«А я говорю, что это он так улыбается,» – упрямо сказал один.
«Скорее скалится и хочет тебя сожрать, дед,» – убеждал его второй.
«Хотел бы сожрать, сожрал бы спящими. Я думаю, он хочет подружиться,» – предположил первый.
«Ты с ума сошел.»
Олух снова улыбнулся. Люди попятились. Потом тот, что был постарше, смело выступил вперед.
Олух силен был во многом: мог поймать лошадь, перетащить ее через реку, разогнуть конскую подкову. Но разговоры были его ахиллесовой пятой. Несмотря на переполнявший его восторг, выразить его словами Олух не мог, лишь блаженно улыбаясь во весь рот и мыча. Деду Богдану удалось выжать из него только нечленораздельно произнесенное имя – Олух и широко разведенные руки в ответ на вопрос: «Где ты живешь?».
«Надо понимать везде и нигде,» – заключил дед.
Примерно тем же мычанием он ответил на вопросы: «Чем живешь? Откуда родом? Есть ли семья?»
«Экий ты неприкаянный, Олух,» – резюмировал дед Богдан. Тот лишь довольно улыбался. Люди впервые не гнали его, разговаривали и угощали печеной в золе картошкой, которую он без ущерба для желудка поглощал с угольками.
Проблемы начались позже, когда путешественники увязали дорожные мешки и начали прощаться. Олух ни в какую не хотел расставаться с новыми знакомыми. Он увязался следом и упрямо брел позади. Слов не понимал ни добрых, ни злых (или делал вид, на что хитрости ему хватало). Простота иногда хуже воровства.
«Вот что,» – решил дед. – «Надо найти ему дело.»
Задача оказалась непосильной. Поначалу казалось, что из Олуха выйдет прекрасный пастух. Коровы, ласковые и безответные, с влажными карими глазами, Олуху нравились и отвечали ему полной взаимностью. Они следовали за новым пастухом с пастбища на водопой и обратно как привязанные. Не заладилось с быком. Своенравная скотина испытала Олуха на прочность, попытавшись боднуть в живот. Тот обиделся и недолго думая (точнее, не думая совсем) тут же дал быку в лоб пудовым кулаком. Бык упал замертво. Его хозяин схватился за голову. Дед, скрепя сердцем, рассчитался за понесенные им убытки. На том пастушество Олуха кончилось. Коровы проводили его печальным мычанием.
Косец из Олуха тоже не получился. Травы он больше мял и топтал, чем скашивал. Все время отвлекался то на найденное в траве гнездо куропатки, то на выскочившего оттуда же очумелого зайца и выбивался из стройного ряда косцов.
Мельник обрадовался было такому помощнику, ворочавшему мешки с зерном и мукой, будто пушинки. Но по природной своей неуклюжести вскоре один мешок Олух порвал, запорошив мукой и себя, и мельника. Зрелище его до того заворожило, что он немедленно вспорол и вытряс второй мешок. Белоснежная мучная пыль, поднимаемая поземкой сквозняком, холмиками устилала мельницу изнутри, никак не сочетаясь со стремительно багровеющим лицом мельника.
Карьера каменотеса (а уж в каменоломне, мнил дед Богдан, новому знакомому самое место) тоже не задалась. Нет, долбить камень Олуху очень даже понравилось. Здесь ничего нельзя было сломать, напротив, именно ломать и надо было. Было куда приложить всю свою силу. Но даже долбить камень надо с умом. В его отсутствии немудрено уронить каменюку на ногу, или кто-нибудь уронит ее на тебя. Олух справился сам и теперь, хромая, ковылял за путешественниками.
Спутники совсем приуныли. Отделаться от Олуха не было никакой возможности. Избавление пришло откуда не ждали.
Бить баклуши – дело нехитрое. Коли себе чурбачки на деревянные заготовки, из которых впоследствии будут вырезаны всевозможные деревянные изделия для домашнего обихода: ложки, скалки и прочее. Олуха процесс заворожил. Он будто заранее видел, сколько ложек выйдет из той или иной чурочки, сколько деревянных свистулек или колотушек для мокрого белья.
Бригада тунеядцев, бившая баклуши на опушке леса, быстро обучила Олуха премудростям своего ремесла и предоставила полную свободу действий. Олух полностью погрузился в процесс. Он нашел свое призвание.
Глава 9.
Город начинался внезапно. Только что были трава, деревья, птицы и бабочки, как внезапно они сменились мусором, помоями, мухами и тараканами. Только что стеной стояли заросли ежевики, как вдруг кончились, и путники уперлись в самую натуральную стену, сложенную из холодного серого камня. Непритязательные камнеломки упорно лезли вверх, цепляясь липкими усиками за трещины в камне, и даже умудрялись цвести меленькими беленькими цветочками, согреваясь днем на солнце.
Небо над столицей было серым, как мышиный хвост, изрядно закопченным и каким-то склизким на вид, будто замызганная половая тряпка, брошенная у порога. На таком небе не были видны ни радуга днем, ни звезды ночью. Солнце висело в небе тусклой серебряной монеткой и изо всех сил пыталось протолкнуть лучи через эту сумрачную дымку.
Городским воздухом дышать было нельзя. Ну по крайней мере с непривычки. Он был густым и духовитым, словно наваристая похлебка. Казалось, его можно резать ножом. Но варились в этой похлебке отнюдь не морковка, картошка и лук, а рыбьи потроха, содержимое ночных горшков, вонючие лохмотья, нестиранная носки, гнилые зубы, дохлые кошки и прочие ингредиенты, столь же неприглядные и неаппетитные. Можете себе представить, каково количество грязных носков и рыбьих потрохов в огромном городе?
Запахи никуда не исчезали. Изливаясь из выплеснутых помоев, они начинали собственную жизнь, витая в воздухе тонкими струйками, обдавая прохожих залпами, окутывая облаками целые улицы. Постепенно они смешивались и превращались в нечто и вовсе невообразимое, и только самый острый нюх мог различить их составляющие.
Город изобиловал заборами. Да не маленькими нарядными декоративными оградками высотой по колено и выкрашенными белой краской. А прочными каменными стенам высотой в полтора человеческих роста, нередко утыканными сверху острыми осколками стекла. За такими стенами горожане чувствовали себя именно так, как и должны, – как за каменной стеной. Столица все-таки. И столица не только для рабочего люда, торговцев, девиц на выданье и начинающих поэтов, но и для жулья и ворья всех мастей.
Помимо заборов город во множестве заполонили почтовые ящики всех форм и размеров. Они украшали входные двери в каждой лавке, трактире, доходном доме и даже казарме городской стражи и никогда не пустовали. Приезжему могло показаться, что горожане непрерывно пишут друг другу письма по поводу и без. Это было не так. Горожане почтовые ящики ненавидели и с радостью использовали бы их содержимое для растопки каминов, если бы это не было чревато большими неприятностями.
Дело было в том, что городское колдовское ведомство, по совместительству ведавшее налогами (а налоги, по сути, и есть колдовство – деньги, возникающие из ничего), – учреждение на редкость скрытное и к посетителям неприветливое, общалось с горожанами посредством писем. Продал, например, обыватель дом, лошадь или тещины золотые зубы, а ему в почтовый ящик тут же уведомление об уплате львиной доли с продажи. И бесполезно оправдываться, что болел, мол, переехал, письма не получал. Незнание не освобождает от ответственности. А несвоевременная оплата увеличивает сумму долга. Правитель города – Лев, по счету шестнадцатый, свои интересы блюл ревностно и Львиную долю собирал аккуратно. А горожанам приходилось проверять содержимое почтовых ящиков ежедневно. Утаить нечто от городского колдовского ведомства было решительно невозможно. Ведь на него работали колдуны. Не настоящие, а так – недоучки-неудачники. Настоящее волшебство им было не по плечу, вот и сидели на окладах у городской казны.
Уведомления об уплате Львиной доли бились в почтовых ящиках горожан, как пойманные в силки птицы, и светились в темноте неугасимым алым светом. И захочешь о нем забыть, да не получится. Это тоже было работой колдунов на окладе.
Для предприимчивых людей грех было не воспользоваться такой возможностью. Поэтому пухли почтовые ящики от всяческой рекламной макулатуры, точно баба на сносях. Лекари предлагали свежепойманных жаб от бородавок и свинцовые белила для красоты лица; башмачники – деревянные башмаки на 10-ти сантиметровых колодках для удобства передвижения по городской грязи; свахи – девиц румяных, хозяйственных и не болтливых, имеющих исключительно серьезные намерения; типографии – печать рекламных листовок любого вида.
Столица путешественников ошеломила многоцветием вечерних огней, шумом, гамом, толчеей, многоэтажностью строений, вонью помоек и вальяжностью крыс размером с кошку. Даже дед оробел. Нужно было остановиться где-то на ночлег и раздобыть ужин. А монет после погашения убытков от попыток трудоустройства Олуха оставалось катастрофически мало. Дед Богдан лелеял надежду в столице заработать деньжат на продолжение путешествия. В большом городе работы должно быть много, рассуждал он.
Попетляв по самым темным и грязным переулкам, путники нашли неказистый постоялый двор с трактиром, верно рассудив, что чем дальше от городских ворот, тем дешевле. Заодно было, правда, и грязнее, а вместо кукурузного эля подавали шмурдяк – дешевое вино из самого дряного винограда. Аристарху строго – настрого было наказано перчаток не снимать и язык не распускать.







