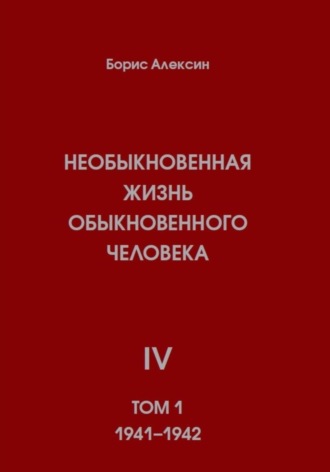
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 1
Так вот, сейчас на дежурстве, по мнению Алёшкина, на совершенно бессмысленном дежурстве, в ожидании появления начальства, Борис и решил познакомиться со своими помощниками. Именно тогда он о каждом из них и узнал всё то, что мы описали немного раньше, а некоторые мысленные дополнения к характеристике каждого сделал уже потом, испытав их в работе.
Незаметно подошло время обеда. Каланча сходил к кухням, которые дымились, притулившись к забору совхоза, и принёс на всё отделение большую кастрюлю супа из мясных консервов и почти такую же кастрюлю рисовой молочной каши. Вслед за тем он доставил хлеб и миски.
Все поели с большим аппетитом, а начсандива всё ещё не было. «Хоть бы скорей приезжал что ли, – думал Борис. – Сходить бы посмотреть, что там наши делают. За целый день даже и не подошли к медпункту», – уже сердился он. А его друзьям было не до медпункта: по распоряжению начсандива Перов и Тая должны были срочно получить имущество противохимической защиты для всей дивизии, в частности, противоипритные пакеты. Их нужно было хранить в медсанбате и именно в санитарном взводе, в отделении противохимической защиты, которым как раз и командовала Таисия Никифоровна. Получив такое приказание, командир медсанбата велел срочно разгрузить от хозяйственного имущества одну из полуторок, и Перов с Таей поехали на ней в Ленинград, где и должны были с одного из складов получить эти злосчастные пакеты. Их сопровождали два санитара из Таиного отделения. Всё это Борис узнал потом, а сейчас его обижало невнимание к его работе этих наиболее близких ему людей.
Тут, пожалуй, уместно будет рассказать о том транспорте, которым был обеспечен медсанбат: по штатам ему полагалось иметь 16 санитарных машин и восемь грузовых. Фактически было получено на две машины меньше, причём специальных санитарных машин было получено всего десять, остальные шесть следовало изготовить самим, приделав к обыкновенным полуторкам фанерные кузова. Но пока ни фанеры, ни мастеров, которые бы это могли сделать, в распоряжении медсанбата не имелось, а командир об этом не очень-то беспокоился.
Алёшкину рассказал об этом командир автороты Сапунов, забежавший в медпункт, чтобы выяснить, не нужна ли будет санитарная машина. Борис направил его для решения этого вопроса к Сангородскому.
Глава шестая
Дежурить было скучно. Все приготовления оказались закончены, лейтенант Сапунов ушёл, и Алёшкин сидел на каком-то обрубке дерева около входа в дом. Затягиваясь «Казбеком», которым он сумел запастись на вокзале в Софрине, он задумался. До этого таких дорогих папирос ему курить не приходилось, ведь все последние годы с деньгами было туго, и он курил самые дешёвые папиросы «Норд», а часто даже резаный табак, продаваемый кабардинцами. Такую роскошь, как «Казбек», он мог себе позволить, только получив деньги здесь, в армии. Невольно его мысли перенеслись в Александровку: «Как-то они там? Получила ли Катя переведённые ей деньги, здоровы ли…» В этот момент его внимание привлёк небольшой столбик пыли, поднимавшийся от быстро мчавшейся по шоссе машины.
– Наверно, начсандив, – сказал Борис сидевшим с ним санитарам.
– Нет, – спокойно ответил Аристархов, – начсандив на полуторке не поедет, у него «Эмка» есть.
Он был прав, это действительно была полуторка, которая в этот момент уже поравнялась со зданием совхоза и резко затормозила. Из кабины выскочил знакомый Алёшкину, ехавший с ним из Нальчика, врач Иванцов. Увидев белый халат Бориса, он подбежал к нему и, явно не узнавая его, взволнованно спросил:
– Здесь, что ли, медпункт?
– Здесь, – ответил Алёшкин, – а что случилось?
– Да вот у меня один чудак каким-то образом себе ногу прострелил. Рана, кажется, пустяковая, кость не задета, а кровь так и не останавливается. Уже жгут пришлось наложить.
По тону, по виду Иванцова можно было понять, как он взволнован и напуган. Лицо его было бледным, руки дрожали, и немудрено, ведь это был его первый раненый. До сих пор Иванцов работал в поликлинике какого-то районного села участковым терапевтом, о раненых только слышал на уроках военно-полевой хирургии в институте.
– Так, значит, вы его примете? Вот хорошо-то! А я боялся, что в Ленинград везти придётся.
Иванцов подбежал к полуторке, и через несколько минут санитары, ехавшие в кузове его машины, внесли на носилках бледного чернявого парнишку, испуганно озиравшегося по сторонам. Правая штанина его была разорванной в нескольких местах и мокрой от крови. В средней трети бедра виднелась промокшая повязка из индивидуального пакета, а выше неё поверх штанов – жгут. Было видно, что жгут наложен неумело и слабо, это сразу же заметил санитар Кузьмин. Он, как бывший санинструктор, хорошо знал правила остановки кровотечения и, подойдя к раненому, свободно подсунув под жгут палец, рассердился:
– Разве так жгут кладут?!! Эх, вы!
Врач Иванцов и санитары, принесшие раненого, смутились, а тот стал озираться ещё более испуганно. Алёшкин в это время уже мыл руки в растворе нашатырного спирта, приготовленном Шуйской.
– Отставить разговоры! Кузьмин, снимайте сапоги с раненого. Аристархов, помогите ему уложить пострадавшего на стол, а вы, товарищ Иванцов, можете ехать. Мы теперь справимся без вас.
– А как же… – начал было нерешительно Иванцов.
– Да вот так же. Доложите, что сдали раненого в медсанбат. До свидания, – отрезал Борис, заканчивая мыть руки.
Иванцов со своими санитарами вышел, а к медпункту уже бежали любопытные: врачи, медсёстры и даже санитары. Узнав от Иванцова, что он привёз раненого, и хирург Алёшкин сейчас его обрабатывает, все бросились в медпункт. Одними из первых вошли командир роты Сангородский и командир операционно-перевязочного взвода Симоняк. Вскоре в маленькой комнатке медпункта собралось любопытных человек десять. Вдвое больше столпилось на улице у входа, что и понятно: это был первый раненый, увиденный ими, но присутствие их мешало, в комнате стало тесно и душно. Борис обратился ко Льву Давыдовичу:
– Товарищ командир медроты, на медпункт доставлен раненый боец, оказываем ему необходимую медпомощь. Прошу дать указание всем лишним из помещения выйти.
Сангородский сообразил справедливость просьбы и где приказом, где уговором, а где и просто лёгким подталкиванием, выпроводил из комнаты всех и закрыл дверь. Остались только он сам и врач Симоняк. Хотя Борису очень не хотелось работать в присутствии таких опытных, как он считал, врачей, ведь это походило на экзамен, тут уж он поделать ничего не мог.
А для него и для его помощников это действительно был экзамен. На кафедре неотложной хирургии в Краснодаре, во время усовершенствования в Москве он имел дело с разными травмами, огнестрельное же ранение ему встретилось только однажды в Александровке, и мы знаем, как трагически оно закончилось. «Как-то я справлюсь с делом сейчас? Может быть, получить поддержку и помощь от этих двух более старших товарищей?» Но ни Сангородский, ни Симоняк халатов не надевали и помогать, видимо, не собирались. Все эти мысли промелькнули в его мозгу с быстротой молнии. Усилием воли он отбросил их и сосредоточил всё внимание на больном. Медсестра Рая нерешительно и боязливо начала разрезать ножницами штанину, чтобы обнажить ногу раненому, и сняла болтавшийся жгут. Она вопросительно посмотрела на Бориса.
– Рая, снимайте повязку.
Видя её нерешительность, уже суровее добавил:
– Да побыстрее, не копайтесь так!
– Катя, – сказал он Шуйской, – дайте ей ножницы… Так, стригите бинт вот здесь. Мне шарик, – протянул он руку к Шуйской.
Та молча подала ему скатанный из марлевой салфетки комочек, смоченный в бензине, а Рая тем временем разрезала бинт и отодвинула повязку. Под ней открылось следующее: с наружной стороны бедра в средней её трети имелось небольшое входное отверстие, а с внутренней, чуть пониже, – было выходное, имевшее диаметр около пяти сантиметров. Из него спокойной и ровной струйкой текла кровь.
Быстро обтерев края раны бензином, Борис мгновенно поставил диагноз и сразу принял решение: «Ранен с близкого расстояния, кость как будто не повреждена, крупные артерии тоже. Наверно, перебита бедренная вена, надо рассечь рану, иссечь размозжённые ткани, найти сосуд и перевязать его». Всё это промелькнуло в сознании гораздо быстрее, чем можно написать или рассказать. В результате этих мысленных рассуждений последовала команда:
– Катя, сухой шарик, йод. Готовь новокаин, шёлк. Рая, посмотри у раненого пульс, считай вслух. Аристархов, приподнимите его ногу, подложите под бедро комок ваты, вот так, хорошо. Пульс в порядке, – сказал он, услышав Раин счёт. – Дай ему валерьянки, пусть успокоится.
Отдавая все эти распоряжения, Борис продолжал внешне спокойно делать своё дело. Он помазал края большой раны йодом и взял шприц с раствором полупроцентного новокаина, стал вводить его в края раны и в глубину. Введя около 50 кубиков раствора, он положил шприц на подставленный Шуйской лоток и протянул к ней руку, в которой сейчас же очутился скальпель. Он взглянул на сестру и благодарно кивнул ей головой, та, принимая молчаливую похвалу, вспыхнула от удовольствия до корней волос.
То ли эта согласованность в работе, то ли ещё что-то вдруг вселили в Алёшкина полную уверенность в своих действиях. Он смело рассёк рану, оттянул пинцетом разорванные кусочки кожи и мышц и, не обращая внимания на продолжавшую струиться кровь, отсёк эти кусочки, затем осторожно раздвинул пинцетом мышцы и вдруг ясно увидел пульсирующий сосуд и струйку крови, вытекающую из него.
– Да, всё-таки вена! – произнёс он вслух.
– Ну, как там? – спросил он Раю, та в это время находилась около головы раненого и обтирала ваткой его потный лоб.
– Хорошо, – ответила она.
– Дешан, – потребовал Борис специальную иглу с вдетой в неё толстой шёлковой лигатурой.
Осторожно отделив вену от артерии, просунул в образовавшуюся щель иглу с лигатурой, не глядя, взял протянутые ножницы, разрезал шелковину, убрал иглу и, раздвинув образовавшиеся кусочки ниток, туго завязал их. Затем обрезал лишние концы нитей и промокнул рану, убедился, что кровотечение прекратилось. Закрыв салфеткой эту рану, он осмотрел входное отверстие и смазал его йодом.
– Ну, вот и всё. Наложите повязку и шину Крайнера, – сказал Борис, обращаясь к сёстрам, сам отошёл к письменному столу и сел за него. И в этот момент он услышал явственный шёпот Сангородского, который, наклонившись к уху Симоняка, наставлял:
– Учитесь! Вот как нужно работать!
Борису было приятно, очень приятно, что скрывать? Но он сделал вид, что не слышал слов Льва Давыдовича и, глядя на карточку передового района, где была написана фамилия раненого, его часть и поставлен диагноз, спросил:
– Свиридов, кто же это вас ранил?
– Да я сам, товарищ врач, нечаянно: чистил пистолет, а он и выстрелил, – слабо проговорил красноармеец.
Алёшкин заполнил карточку и, обращаясь к командиру роты, сказал:
– Теперь его надо эвакуировать в ближайший госпиталь. Кто этим займётся?
– Пусть он немного полежит здесь, я сейчас доложу командиру медсанбата, – ответил тот.
Но докладывать не пришлось. Дверь открылась, и в комнату вошёл начсандив Исаченко:
– Что здесь такое? Доложите, – обратился он к Сангородскому.
Командир медроты рассказал, что было сделано, кто за что отвечал, представил дежурного хирурга Алёшкина и при этом не мог удержаться, чтобы не похвалить его и всю бригаду. Исаченко слегка улыбнулся:
– Ну что же, это хорошо, так и должно быть. В общем, приятно, что молодёжь умеет работать. А вот докладываете-то вы, товарищ Сангородский, плохо. Надо научиться говорить военным языком.
Он немного помолчал, а затем добавил:
– А раненого мы сейчас заберём и увезём в госпиталь. У меня санитарная машина, на неё и погрузим, я сам и завезу. Он транспортабелен? – обратился Исаченко к Борису. Тот, помня замечание начсандива Сангородскому, вытянулся и, чётко произнося слова, ответил:
– Так точно, товарищ начсандив, транспортабелен лёжа. Вот карточка передового района, – и с этими словами он подал её начсандиву.
– Ого! Да вы, оказывается, не только оперировать умеете, – снова улыбнулся Исаченко. – Хорошо, пусть его несут в мою машину, – сказал он, выходя из помещения.
И тут наступила заминка: носилок в медпункте не было, командир медсанбата категорически запретил распаковывать носилки, уложенные на трёх грузовых машинах и связанные в пачки. А носилки, на которых был привезён Свиридов, принадлежали полку, и Иванцов увёз их с собой. Что делать? Но нашёлся санитар Кузьмин: он подбежал к машине начсандива, узнал у шофёра, что в его машине носилки есть, взял одни и через несколько секунд явился с ними в медпункт. Сейчас же раненый был погружен в машину, и Исаченко уехал.
Сангородский впоследствии рассказал Алёшкину, что этот раненый подозревался в умышленном членовредительстве, и начсандив обязан был доложить о нём в Особый отдел дивизии.
В скором времени и в течение всей дальнейшей войны много раненых прошло через руки Бориса Алёшкина, но этот первый чернявый паренёк запомнился ему навсегда. Впоследствии выяснилось, что, хотя Свиридов прострелил себе ногу не умышленно, а по небрежности, а, может быть, и по неумению, дивизионный трибунал приговорил его к направлению в штрафной батальон. Что с этим пареньком случилось дальше, Борис так никогда и не узнал.
После отъезда начсандива сёстры и санитары навели порядок в медпункте, заменили бельё, перемыли инструменты и вновь поставили их стерилизовать на организованный Аристарховым очажок. Всё это время Борис, гордясь собой и своими помощниками, с важным видом стоял у входа в медпункт с командиром роты и взвода, то есть с докторами Сангородским и Симоняком, выслушивая их похвалы. Между прочим, он заметил, что операция у него прошла так хорошо только потому, что он всего полгода назад прошёл специальные курсы усовершенствования, где учителями были такие знаменитости, как А. В. Вишневский, С. С. Юдин, Гориневская и другие, и что, видимо, их наука пошла впрок.
Лев Давыдович сказал, что Исаченко отдал приказание дежурить на медпункте всем отделением операционно-перевязочного взвода по двенадцать часов, и следующее отделение заступает в 22:00. После этого начальники ушли, а медпункт стал центром внимания всего медсанбата, и за оставшиеся до смены три часа с Алёшкиным переговорили почти все врачи. Чувствовалось, что все они очень хотят знать и уметь делать всё, что необходимо при огнестрельном ранении. К сожалению, для большинства из них эта работа была совершенно новой, и из рассказов Бориса они очень многого не понимали. Так, даже термины и названия инструментов, которые он невольно употреблял, им были незнакомы.
Лишь такие врачи, как Дурков – хирург из Даркоха (селение в Северной Осетии), приехавший вместе с Борисом, да Е. В. Картавцев, до войны работавший хирургом в районной больнице Рязанской области и по прибытии в медсанбат зачисленный в госпитальную роту, понимали Алёшкина с полуслова и по-настоящему могли судить о правильности или ошибочности его действий.
Конечно, лучше всех мог бы это сделать командир госпитальной роты – хирург, доктор Башкатов, но тот, как, впрочем, и командир медсанбата, даже не счёл нужным осмотреть медпункт. То ли он был слишком болен, то ли считал, что раз это поручено не его роте, значит, ему и интересоваться нет смысла.
Между прочим, Борис этому был даже рад. У него не было полной уверенности, что всё сделано правильно. Его беспокоила мысль о том, что он, по существу, никак не обработал входную рану. Уже потом Алёшкин сообразил, что её следовало бы рассечь. Конечно, об этих сомнениях он никому не сказал.
На улице немного стемнело. Белые ленинградские ночи уже кончались, темнота понемногу сгущалась. Сидя на пороге своего медпункта, Борис увидел, как в отдельных частях леска, находившегося напротив, становилось всё темнее и темнее. Правда, потёмки наступили значительно позднее, чем в Кабарде, на юге. Там ведь сумерек почти не бывает, а вслед за заходом солнца сразу становится темно. Здесь же ночная темень надвигалась медленно, и она была не настолько густа. И звёзды, постепенно загоравшиеся на темнеющем небе, были как будто мельче, и не такие яркие, как в Кабарде. Казалось, что они находятся здесь дальше от Земли.
Глядя на это небо, Борис невольно вспомнил о доме. Совсем-совсем недавно, чуть больше месяца тому назад, они с Катей, уложив детей, сидели на крыльце своего дома и любовались мириадами звёзд, мирно мигавшими со своей недосягаемой высоты. Так же, как и сейчас, недалеко мерцал огонёк: соседи Завитаевы готовили ужин на летнем очажке – почти таком же, как смастерил Аристархов, который, сидя на корточках, подкладывал маленькие сосновые чурки, чтобы побыстрее прокипятить хирургический инструмент. «Как-то там Катеринка, получила ли деньги, письмо? А от неё пока ничего нет. Да она ещё, наверно, толком и не знает, куда писать. Вот остановимся на постоянное место, тогда я ей пошлю точный адрес», – подумал Борис и, бросив потухший окурок, вошёл в дом.
В комнате медпункта всё уже было прибрано, и обе сестры, сидя у стола, весело смеялись чему-то, видимо, очень забавному, что им рассказывал Кузьмин, сидевший на корточках возле двери, куривший в кулак и старательно разгонявший другой рукой облака сизого махорочного дыма.
Одеяла, затемнявшие окна, были опущены и, как Борис убедился ещё на улице, светомаскировка была достаточно хорошей. Но, как это часто бывало в начале войны, маскируя одно, совсем забывали о другом. Так случилось и здесь. Хорошо закрыв окна, Алёшкин совсем не обратил внимания на довольно значительный свет, излучаемый очажком, на котором кипятились инструменты и который, конечно, был хорошо заметен издалека и с высоты. Эта оплошность повлекла за собой неприятности для всего отделения и, прежде всего, для его командира.
Борис прошёл к столу и сел на одну из табуреток, с которых вскочили сёстры, ещё не успевшие оборвать смех при появлении врача, а Кузьмин поспешил ретироваться за дверь. Борис собирался похвалить девушек за расторопность и отличное знание своего дела, как вдруг на улице услышал гневный крик комиссара батальона Барабешкина:
– Я тебе приказываю! Немедленно заливай огонь, ты что, фашистам сигнализируешь?!! Гаси сейчас же!
В ответ слышался довольно спокойный, но всё же смущённый ответ Аристархова:
– Мне же приказали инструмент вскипятить, вот я и кипячу. А они ещё не кипят, товарищ батальонный комиссар.
– Ты ещё рассуждать? Тебе приказывают, а ты ещё в пререкания со старшими вступаешь?!! – кричал Барабешкин.
Алёшкин и обе сестры выскочили из медпункта, чтобы защитить санитара, но своим появлением только подлили масла в огонь. Ведь они были в белых халатах и, конечно, их фигуры в темноте, да ещё в отблесках от, как назло, особенно ярко разгоревшегося очажка, были видны издалека. Это окончательно вывело из себя Барабешкина, панически боявшегося вражеских самолётов. Он уже совсем диким голосом заорал:
– Марш в помещение! Вы что, не понимаете, что демаскируете медсанбат? Вы за это перед трибуналом ответите!
Ко всем этим выражениям были присовокуплены и другие, которые в печати приводить не принято, но в тот момент ни Борис, ни сёстры на это даже внимания не обратили, а, растерявшись, кинулись обратно в медпункт.
Вероятно, так бы и не удалось простерилизовать инструменты, если бы не находчивость шедшего вместе с комиссаром политрука Клименко. Последний приказал Кузьмину принести из медпункта две плащ-палатки и соорудить вокруг очажка подобие шалаша, который значительно уменьшил видимость огня. Тут, к счастью, инструменты достаточно прокипели, и огонь можно было залить. Но комиссар до того рассердился, что даже не зашёл в медпункт, куда его вёл Клименко, чтобы показать ему героев сегодняшнего дня.
Так, этот день, начавшийся для отделения Алёшкина успешно и удачно, закончился совершенно непредвиденным и неприятным инцидентом. Борис, хотя и был оскорблён и обижен грубостью, руганью и криками комиссара Барабешкина, мысленно обзывал его хамом и трусом, в душе не мог не признать известной справедливости его требований. В свою очередь, он поругал и себя за свою невнимательность, досталось от него и Аристархову.
Вскоре после ухода комиссара пришла смена – отделение доктора Дуркова. Когда Борис со своими людьми вернулся в расположение медсанбата, он узнал, что все коровы уже подоены и директор совхоза, не дожидаясь рассвета, вместе со стадом и сопровождавшими его дедами, уже более часа назад покинул усадьбу. Молока надоили очень много, заготовлять его впрок было невозможно (стоял конец июля), и хозяйственники медсанбата решили раздать его на ужин. Борису, как и всем другим, достался целый котелок ещё не остывшего, парного молока, которое он и выдул почти одним духом, закусив изрядным куском чёрного хлеба.
До официального отбоя, который в медсанбате с начала формирования был в 23 часа, о чём громким криком: «Отбой!» извещал дежурный, и после которого хождение по территории батальона запрещалось, оставалось всего 10–15 минут. Борис решил узнать, куда же делись Перов и Тая. Когда он очутился в расположении санитарного взвода, бойцы, сидевшие кучками и осторожно курившие, чтобы, Боже упаси, кто-нибудь из начальства не увидел, вскочили при его появлении. Узнав, кого он ищет, помкомвзвода Волков сказал:
– Товарищ военврач третьего ранга и Таисия Никифоровна ещё не вернулись. Они рано утром уехали в Ленинград, и вот до сих пор их нет. Уж не знаем, что и думать. Я к командиру медсанбата ходил, хотел доложить, да он спит. Так вот и сидим, ждём их. Палатки им, как приказал командир взвода, поставили, вот здесь под деревом, – и он показал на темневшие в нескольких шагах сооружения, из двух плащ-палаток каждая, стоявших под большими раскидистыми соснами.
– Ну, ладно, – сказал Борис, – я пойду к себе в роту. Когда они вернутся, скажите, что я заходил, спрашивал.
Борис отправился к себе, залез в палатку, которая у них на двоих с Дурковым была сделана из трёх плащ-палаток. Днём, пока Алёшкин работал в медпункте, Дурков заботливо оборудовал жильё, застлав пол еловым лапником и покрыв его где-то раздобытыми байковыми одеялами. В головах вместо подушек он уложил вещевые мешки, а с боков, приподымая стенки палатки, поставил потрёпанные чемоданчики.
Алёшкин, сняв обмотки и ботинки (он всё ещё не имел сапог), растянулся на импровизированном ложе и, даже не успев закурить, заснул крепким сном. За день он здорово устал. Конечно, спал, не раздеваясь. Кстати сказать, с того момента, как медсанбат выехал из Софрина, раздеваться на ночь командирам медсанбата было запрещено. Да, собственно, и там на ночь никто не раздевался.
На следующий день, в воскресенье, подъём произвели не в шесть часов, как обычно делалось в Софрине, а в восемь, и Борис успел основательно выспаться. Когда он поднялся и, умывшись из колонки водопровода, находившейся во дворе совхоза, вернулся к своей палатке, то увидел около неё котелок с пшённой кашей и мясной подливой, сверху котелка лежала пайка хлеба, а рядом стоял большой чайник с чаем. Всё это принёс санитар Аристархов, который, видимо, счёл своей обязанностью с этого дня заботиться о командире отделения. Алёшкин с аппетитом поел.
Вообще, следует сказать, что положение врачей, как и большинства средних медработников, в медсанбате сложилось какое-то неопределённое. Многие из них воинских званий не имели, и поэтому никаких знаков различия не носили. Являясь представителями начальствующего состава, в строевом отношении они находились в положении рядовых. По распоряжению (не совсем умному) командира медсанбата они полностью подчинялись старшинам рот, которые, имея звание старшин, носили в петлицах соответствующее количество треугольников. Так получилось и с Алёшкиным: хотя он имел звание старшего лейтенанта строевой службы, однако, «чтобы не путаться», как выразился командир медсанбата, ему было запрещено носить кубики. Поэтому он, как и другие врачи, носил петлицы с эмблемой медицинской службы, но без каких-либо знаков различия. Привыкнув в армии занимать командные должности, он чувствовал себя неловко.
Начальник штаба батальона Скуратов заполнил соответствующие документы на присвоение первичного медицинского звания «военврач третьего ранга» на всех врачей, которые его не имели, и передал это в штаб дивизии, но пока ничего не происходило.
В десять часов были собраны врачи и средний медперсонал санбата. Клименко сделал очередную политинформацию, то есть прочитал сообщение Совинформбюро о положении на фронтах и прокомментировал их. Хотя он и старался смягчить сообщаемые сведения и больше останавливался на изложении подвигов того или иного бойца подразделения, описываемого в газете, большинство слушателей понимали, что дела на фронте ухудшаются, наши войска почему-то беспрерывно отступают, оставляя один город за другим. В предыдущий день было оставлено много городов: уже пал Смоленск, фашисты захватили почти всю Прибалтику, большую часть Белоруссии, Западную Украину… Хотя части Красной армии в городе Таллине мужественно сопротивлялись, чувствовалось, что и его дни сочтены. Однако продвижение фашистов непосредственно к Ленинграду с запада и юго-запада временно прекратилось. Многие начали гадать, куда же будет направлена 65-я cтрелковая дивизия. Этот вопрос опять повис в воздухе.
Дивизия продолжала находиться вблизи города Гатчины, и чтобы не терять времени даром, во всех её подразделениях возобновились усиленные занятия. После некоторого размышления Лев Давыдович Сангородский в конце концов решил, что не может быть такого, чтобы в распоряжении командования медсанбата не имелось каких-нибудь новых, последних инструкций по организации его медицинской работы. Используя свои хорошие отношения с политруком роты Клименко, он через него попытался что-нибудь вызнать у командира батальона.
Дело в том, что командир медсанбата Краснопеев, а затем и присоединившийся к нему комиссар Барабешкин, всё ещё продолжали уединяться в своей «личной» санитарной машине и предаваться невоздержанным возлияниям спиртного, которое беззастенчиво требовали из аптеки. Как оказалось, вместе с медикаментами ими было получено довольно большое количество коньяка и вин, предназначавшихся для проведения противошоковых мероприятий. Вследствие того, что Краснопеев почти всё время находился в состоянии недостаточно вменяемом, службы медсанбата действовали самостоятельно, кому как вздумается. Медицинская рота, получив наконец временную инструкцию по обработке ран в полевых условиях, а она, оказывается, была у Краснопеева ещё в Софрине, принялась за её изучение. Госпитальная рота во главе со своим командиром предпочитала отдыхать. Бойцы санвзвода, взвода охраны и шофёры занимались строевой подготовкой под руководством начальника штаба батальона лейтенанта Скуратова, остальные службы помаленьку исполняли свои обязанности: повара стряпали, хозяйственники подсчитывали и переупаковывали полученное имущество, тем же занимались работники аптеки.
Кстати, палатка ДПМ, выгруженная из машины, захваченной комбатом, так и продолжала лежать беспризорной, место для неё пока не нашлось. Она представляла собой брезентовое сооружение шириной около шести метров и длиной около двенадцати, с высотой стенок – два метра и коньком крыши – четыре метра. Как-то эта палатка попалась на глаза Борису, и он, подойдя к Сангородскому, спросил:
– Товарищ командир роты, вон там свёрнутая палатка лежит. Наверно, в недалёком будущем нам придётся в таких палатках работать, а я, честное слово, понятия не имею, как её нужно ставить.
– А вы думаете, я имею? – ответил Сангородский.
– Ну, то, что мы не знаем, ещё полбеды, а вот знают ли санитары? – засомневался Алёшкин.
– А в самом деле, сейчас выясним. Товарищ Красавин, – окликнул Лев Давыдович проходившего мимо старшину своей роты.
Тот, как дисциплинированный строевик, подбежал на зов, остановился в нескольких шагах и отрапортовал:
– Товарищ командир роты, по вашему вызову старшина Красавин прибыл!
– Хорошо, хорошо, – вяло махнул рукой Сангородский, – стойте вольно. Вы вот что скажите, вы когда-нибудь палатку ДПМ развёртывали, ставили её?
– Не-е-т, – протянул смущённо Красавин, – не приходилось!
– А кто-нибудь из санитаров умеет с ней обращаться?
– Не знаю… Вряд ли.
– Тогда после обеда соберите всех санитаров, медсестёр и врачей нашей роты, попробуем поставить палатку, всё равно она пока без дела лежит.
– Слушаюсь, товарищ командир, – ответил Красавин.
– Да-а, – задумчиво сказал Лев Давыдович, – с такой подготовкой мы чёрт знает что можем натворить! И что же это Исаченко смотрит? Как будто мужик он неглупый… А ведь наши-то «отцы-командиры» совсем того…
Алёшкин благоразумно промолчал.







