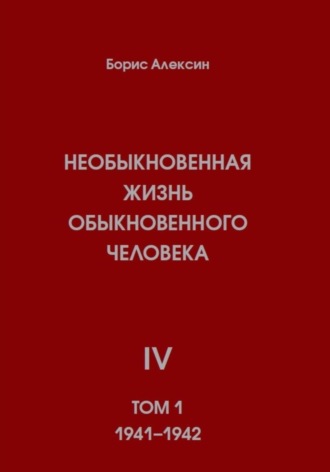
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 1
Специальным приказом Главсанупра РККА с 15 октября изменялись штаты медсанбатов. Многие, в том числе Алёшкин, Сангородский и другие врачи, не раз говорили, что штаты батальона раздуты, что в нём много лишних единиц, которые только затрудняют передислокацию. Видно, это поняли в Главсанупре, и вот пришёл приказ: число людей в батальоне сокращалось с 205 человек до 124. Количество врачей сокращалось на восемь человек, фельдшеров и медсестёр на шесть, рядовых на 67. Одновременно с сокращением в медсанбате произошла и довольно существенная реорганизация всей структуры. Из самостоятельных больших подразделений осталась только одна медрота, состоявшая из операционного и перевязочного взводов. Госпитальная рота превратилась в госпитальный взвод со штатом из двух врачей и четырёх медсестёр. Отделения – эпидемиологическое, лабораторное, химзащиты и взвод охраны были ликвидированы вообще. Значительно сократилось число автомашин и шофёров, сократили складской и хозяйственный аппарат батальона. Приказ об этом сокращении в батальоне был получен в последние дни октября, причём начсандиву и комбату приказали закончить приведение состава батальона к новому штату в течение трёх дней. Всех освобождавшихся от работы в батальоне врачей необходимо было направить в Ленинград, где организовывали дополнительную госпитальную сеть (вывоза раненых из Ленинграда ведь почти не было). В первую очередь приказали освободить медсанбат от больных, престарелых и женщин. Из батальона отчислили Башкатова, Климову, Симоняка, Крумм, Скворец, Эдельман, Красовскую, Белавину. В медроту взамен уходивших были назначены: командиром операционно-перевязочного взвода – Бегинсон, врачами отделений – Картавцева и Ивановская. Кстати сказать, до сих пор они фактически и работали в медроте. Врача Криворучко перевели в госпитальный взвод.
Среди отчисляемых только Скворец была молодой женщиной, и это удивило Бориса. После объявления решения об её откомандировании он уже собрался идти к начсандиву, чтобы выяснить причину отчисления, но, к его удивлению, Тая заявила, что она почувствовала резкое ухудшение здоровья, боится серьёзно расхвораться и поэтому просила об этом сама. Выслушав её доводы, Борис согласился, он и сам заметил, что в её поведении в последнее время появились странности. Во время работы в операционной она иногда едва стояла на ногах. Бывало, что, закончив обработку очередного раненого, садилась в предоперационной на ящик, заменявший стул, с таким утомлённым видом, что на неё было жалко смотреть. Заметил он также и изменение отношения Таи к себе. Всё это Борис приписывал переутомлению молодой женщины, расстройству нервной системы от постоянного перенапряжения и решил её отъезду не мешать. Откровенно говоря, он и сам чувствовал себя уставшим сверх всякой меры, «ну, а женщина, – думал он, – что ни говори, всё-таки женщина».
20 октября отчисленные врачи и медсёстры, погрузив свои пожитки на санитарную машину, забравшись в неё сами, отправились в Ленинград. При расставании не обошлось без слёз. Бориса вызывали в операционную, поэтому он простился с Таей буквально на ходу.
На следующий день в медсанбат явился помощник начальника штаба дивизии, молодой майор, недавно прибывший в пополнении. Он приказал построить весь рядовой состав батальона. Осмотрев строй, он сказал, что сейчас в полках большая убыль народу, и на передовой находятся люди гораздо менее здоровые, чем те, которые сидят здесь в тылу. Он заявил, что забирает из медсанбата всех здоровых санитаров, и предложил заменить их легкоранеными из числа пожилых ополченцев, которые поступают в медсанбат.
К счастью, начсандив Исаченко в этот момент тоже был в батальоне, его вмешательство и настойчивые возражения Сангородского и Алёшкина заставили майора изменить своё распоряжение и оставить санитаров, работавших в операционной, как специалистов, а также и санитаров-носильщиков из сортировки. Всем же остальным, в том числе и старшине Красавину, он приказал немедленно собрать свои вещи и следовать пешим порядком к штабу дивизии, где их ждало распределение по частям.
Эвакоотделению, госпитальному взводу, хозяйственникам и санитарному отделению пришлось срочно подбирать новых санитаров из числа легкораненых. Нельзя сказать, чтоб это было простой задачей, ведь надо учесть, что рассчитывать приходилось только на тех рядовых бойцов, которые не имели никакой военной специальности, могли поправиться в кратчайший срок и не стать совершенно годными к строевой службе, но в то же время не быть совсем беспомощными. А так как в этом деле ни у кого из командиров подразделений медсанбата не было опыта, то при подборе произошло немало ошибок.
Однажды Борис, обрабатывая одного бойца и расспрашивая его, узнал, что этот пожилой человек родом со станции Батецкой возле Ленинграда, его посёлок давно уже захвачен немцами, у него есть семья – жена, сын и две дочки. Что с ними сталось, он не знал. Его взяли в дивизию народного ополчения ещё в июле, в августе он был ранен в ногу, поправился, в конце сентября попал в 65-ю стрелковую дивизию и вот, здесь снова получил ранение. Оно оказалось не тяжёлым: осколок мины провёл длинную черту от левого уха почти до затылка, перерезал кожу и мышцы, но не повредил ни крупных сосудов, ни кости. Рана, хотя и выглядела страшной, на самом деле опасной не была. Алёшкин, в нарушение всех правил, решил зашить её и оставил раненого в медсанбате под наблюдением. Звали его Николай Игнатьевич Игнатьев, ему было 52 года.
Борис попросил Перова взять Игнатьева к себе в отделение (из санвзвода сделали отделение), пока там физической работы не прибавилось. Оставить его в медроте было нельзя: здесь требовались молодые, физически сильные люди. Забегая вперёд, скажем, что вскоре Игнатьич стал связным у Перова, чем-то вроде ординарца, и справлялся с этой работой очень хорошо.
Как можно было заметить, в последние дни работы медсанбата его командир Васильев почти устранился от всякой деятельности, вместо него распоряжаться пришлось Сангородскому и Алёшкину. Это всех удивляло, но объяснение, и довольно трагическое, последовало быстро и для личного состава батальона совершенно неожиданно.
Дня через три после отъезда врачей и переформирования медсанбата в его расположение явился в полном составе трибунал дивизии. Председатель вызвал к себе начальника штаба Скуратова и командира медроты Алёшкина. Им было объявлено, что скоро начнётся суд над командиром медсанбата военврачом третьего ранга Васильевым, который уже около месяца находился под следствием. Следствие закончилось, и командир дивизии приказал провести судебное заседание в медсанбате немедленно. Для этого необходимо подготовить большую палату и собрать в неё всех свободных от дежурства людей. Борис ответил, что всё это сделает товарищ Скуратов, а у него начинается смена в операционной, и поэтому он вряд ли может быть чем-нибудь полезен. По этой же причине он не сможет и присутствовать на суде. После такого заявления прокурор, находившийся тут же, а это был тот самый прокурор, машиной которого Алёшкин так бесцеремонно воспользовался в Хумалайнене, улыбнулся и остановил пытавшегося возразить председателя трибунала:
– С этим доктором лучше не спорить, я уж его знаю! Пусть идёт в операционную, мы тут как-нибудь и сами справимся.
Борис вздохнул с облегчением, направился в операционную, сменил Картавцева и рассказал ему о предстоявшем суде. Тот также, как и Алёшкин, очень удивился этой новости и пообещал сразу же после суда зайти и всё рассказать.
Раненых было много, Борис быстро надел халат и приступил к мытью рук. Теперь перевязочную и обе операционных в медсанбате устроили по-другому, понимая, что сортировку надо разгружать быстрее, и для этого часть ожидавших обработки раненых следует держать поближе к операционной. Поэтому оперблок стали развёртывать из двух палаток, соединённых вместе. В палатке ППМ с раненого снимали часть верхней одежды, которую можно было снять, обувь и, по возможности, обмывали обнажённые участки тела. После обработки раненых тут же одевали. Вторая палатка, ДПМ, служила местом хирургической обработки раненых. В ней же простынёй отгораживался угол, где хирург мыл руки и стоял столик писаря, заносившего данные о раненом в карту передового района.
Соединённые палатки выглядели так:

Часа через три в операционной появился Картавцев. Он выглянул из-за простыни, отделявшей моечную, и негромко позвал Алёшкина. Тот только что управился с очередным раненым и в ожидании нового подошёл к столу писаря, взял из лежавшей пачки «Норда» папиросу и с наслаждением закурив её, присел на стоявший у стола ящик из-под перевязочного материала, заменявший и кресло, и табуретку.
Картавцев негромко сказал:
– Знаете, Борис Яковлевич, нашего комбата-то к расстрелу приговорили и сразу же увезли. Начсандив приехал на оглашение приговора, назначил командиром медсанбата Перова. Говорят, что его теперь утвердят постоянно. Исаченко привёз с собой и нового командира санотделения – молодого врача, кажется, по фамилии Емельянов. Он эпидемиолог, инфекционист, чуть ли не кандидат наук, а с виду такой щупленький, беленький и ещё совсем молодой.
Борис от неожиданности чуть не выронил папиросу и, не дослушав Картавцева, воскликнул:
– Как к расстрелу? За что? Что он такого сделал? Что батальоном не очень хорошо командовал – так ведь он же не умеет, он же в этом не виноват! Говорили, что он даже отказывался от этой должности.
– Да нет, тут совсем другое дело. Помните, как Васильев в Ленинград ездил вместе с Прохоровым за разными материалами, ещё с Карельского перешейка, да уже и отсюда пару раз?
– Ну да, конечно, ведь у него в Ленинграде семья: жена и, кажется, двое детей. Ему, наверно, повидаться хотелось.
– Если бы только повидаться, а то ведь он каждый раз с собой продукты вёз, да помногу: то ящик сгущённого молока, то ящик макарон, то консервы мясные или рыбные, то овощи сухие, то сахар… Ещё в одной из поездок с Карельского перешейка его задержали на КПП с мешком сушёного картофеля. Он как-то отговорился, его пропустили, но, видимо, начали следить. Сделали обыск на квартире в Ленинграде, нашли большие запасы продовольствия. Жена Васильева сказала, что это муж привозил, говорил, что это паёк у него такой. Ну, тут пошли всякие хозяйственные проверки. Мы-то за работой ничего не замечали, а ведь уже более двух недель в батальоне всех хозяйственников трясут. Кладовщика Капустянского неделю назад арестовали, он, оказывается, все эти продукты выдавал комбату, а затем списывал на раненых. Его тоже вчера привезли, уже под конвоем, и судили вместе с комбатом. Учли, что он был подчинённым Васильева и, по существу, выполнял его приказания, дали 10 лет с заменой на пребывание в штрафной роте. И Прохорова, оказывается, тоже трясли основательно, но он сумел доказать, что все эти махинации творились за его спиной. Да и оба обвиняемых показали, что Прохоров ничего не знал. Так что он отделался только нервотрёпкой и лёгким испугом. Пострадал ещё писарь хозчасти, его тоже в штрафную роту направили.
Борис вспомнил, что, действительно, он уже несколько дней не видел Капустянского – толстого, коротконогого, рыжеватого еврея с хитрыми узенькими глазками, служившего до войны инспектором в каком-то райпотребсоюзе и по прибытии в батальон назначенного старшим кладовщиком продсклада. Ему этого человека было совсем не жалко. Капустянский с его лоснящейся круглой физиономией, встречавший врачей и других командиров какой-то угодливой улыбочкой, а всех рядовых – нахально-высокомерным видом, был ему антипатичен. Зинаида Николаевна Прокофьева прозвала его Двуликим Янусом, и это прозвище ему очень подходило. «Пусть-ка теперь попробует солёного на передовой в штрафной роте», – без злобы, но и без сожаления, думал Борис. Но вот Васильева было жалко. Он, конечно, и в душе, и вслух ругал его за глупость и проявленную элементарную нечестность, но в то же время как-то и оправдывал его, ведь этот несчастный человек, навещая семью, видел, как начинают голодать его дети, и пошёл на преступление, стараясь спасти их. «Мало ли родителей готовы нарушить закон ради спасения жизни своих детей? Ведь Васильев крал не для спекуляции, не для продажи. Конечно, его нужно было наказать, ведь он, грубо говоря, воровал у раненых, но приговор всё же слишком суров», – думал, продолжая работать, Алёшкин.
В последующие несколько дней жизнь медсанбата особенно не изменилась. Люди втянулись в работу и выполняли её как бы уже по инерции, механически. В обработке раненых, особенно имевших лёгкие ранения или средней тяжести, Алёшкин и Картавцев, по очереди возглавлявшие бригады, приобрели большую сноровку, и в смену через их руки проходили иногда до 120 человек. Тяжёлых раненых, особенно с ранениями в живот (их было не очень много), чаще всего оперировали доктор Бегинсон и Ивановская. Сравнительно близко от батальона, в двух-трёх километрах, стояли полевые госпитали № 27 и № 21, и тяжёлых, большей частью без обработки, а иногда даже без выгрузки из машин, Сангородский переправлял туда.
Между прочим, Пальченко, начальник аптеки, сопровождавший откомандированных врачей, при возвращении сказал, что все они назначены в эвакогоспиталь № 74, вновь созданный и размещённый в здании бывшего Лесного инженерного института, за исключением доктора Башкатова, который был сразу помещён для лечения в клинику Военно-медицинской академии.
Вскоре в батальоне стало известно, что приговор трибунала в отношении Васильева командующий Невской опергруппой не утвердил, заменив его 10 годами заключения с отбытием срока наказания в штрафной роте в качестве рядового бойца. Многие из врачей батальона никак не могли себе представить, как это можно пробыть в штрафной роте 10 лет. Неужели война будет длиться 10 лет? А что делать в штрафной роте в мирное время?..
Как-то вечером, во время небольшого перерыва в поступлении раненых, несколько санбатовцев, в том числе и Борис, сидели у печки в сортировке, «председательствовал» Сангородский. Вообще, он умел привлечь к себе людей, и врачи, пожилые и молодые, охотно собирались вокруг него, чаще всего в сортировочной палатке, но даже и просто на улице. Все с удовольствием слушали разные забавные истории и анекдоты, которых он знал великое множество и рассказывал с неподражаемым умением. Правда, недавно у него появился соперник – следователь, майор Цейтлин. Случилось так, что по некоторым причинам, о которых мы расскажем позже, он оказался прикреплённым к батальону, встал на довольствие и почти год жил в нём. В тот вечер, о котором идёт речь, Цейтлин только что прибыл в медсанбат и за неимением другого места пока поселился в сортировке. Собравшиеся врачи упросили его рассказать о том, что значило пребывание в штрафной роте, расспрашивали и о положении на фронте дивизии. До сих пор об этом можно было судить только из отрывочных рассказов раненых, которые, как правило, отличались большим субъективизмом, и очень часто бывали далеки от действительного положения вещей.
Иосиф Абрамович, так звали Цейтлина, рассказал, что после очень скудной артиллерийской подготовки (не хватало боеприпасов), используя самые разнообразные плавучие средства (лодки, плоты и даже просто брёвна), 65-я стрелковая дивизия, 2-я морская бригада и ещё какие-то части сумели форсировать Неву в районе Невской Дубровки, от которой осталось только одно кирпичное здание какого-то завода, и захватить на том берегу небольшой плацдарм. Правда, при этом форсировании дивизия почти полностью потеряла свой 50-й стрелковый полк, но два других, хотя и с большими потерями, обосновались на крошечном пятачке длиной от одного до полутора и шириной до четырёх километров по берегу Невы. Пятачок этот простреливается пулемётным и миномётным огнём вдоль и поперёк. Но переправившиеся части, вырыв окопы полного профиля, ходы сообщения, устроив блиндажи, используя оставшиеся части построек посёлка, крепко держали оборону и больших потерь не несли. Однако расширить занятую территорию не было никакой возможности – немцы охватили этот пятачок кольцом своих оборонительных сооружений и буквально не давали поднять головы.
По приказу командующего Невской группировкой первый эшелон штаба дивизии вместе с командиром и комиссаром находились на этом пятачке. Артполк и все тыловые части стрелковых полков и дивизий располагались в большом сосновом лесу на правом берегу Невы, они несли значительные потери от миномётно-артиллерийского обстрела. Особенно много людей погибло во время переправы через Неву, когда переправлялись на левый берег в передовые части военнослужащие, боеприпасы и продовольствие и когда обратно с пятачка увозились раненые. Конечно, переправа происходила ночью, но немцы без конца пускали осветительные ракеты.
По словам Цейтлина, из 11–12 лодок, пересекавших Неву, невредимыми до другого берега достигали едва ли две-три, остальные прибывали полузатонувшими или полностью тонули, и тогда перевозимые ими люди, если они не погибли сразу, добирались вплавь.
Самым опасным местом в дивизии считалась именно переправа, поэтому на обслуживание её, помимо сапёров, занимавшихся починкой лодок, устройством плотов и т. п., назначили штрафную роту, люди которой служили перевозчиками. И, как говорил Цейтлин, если удастся такому перевозчику переправить свою лодку или плот раза три-четыре подряд и при этом остаться живым и не раненым, это считалось большим счастьем.
Объяснил он также и то, что по существующим законам пребывание в штрафной роте продолжается до первого ранения, выводившего бойца из строя, после чего он из разряда штрафников отчисляется и, если поправится, то в дальнейшем свою службу несёт в обычной части. А некоторым, наиболее отличившимся, после ранения даже возвращалось и имевшееся у них до того звание.
– Но, – уточнил он, – таких счастливчиков, которые после ранения могли бы опять служить в строю, бывает, как правило, не больше 10 %. Остальные или гибнут на месте, или получают тяжёлые ранения и по выздоровлении становятся инвалидами.
Он рассказал, что однажды по приказанию прокурора был на том берегу, и хотя переправа для него окончилась благополучно, пребывание даже в блиндаже командного пункта дивизии в течение 12 часов, которые он там провёл, показались ему кошмаром. Обстрел пятачка немцы не прекращали в течение дня ни на минуту, люди сидели, прижавшись к земляным стенкам окопов и блиндажей. Раненых и убитых было не так много, но беспрерывно слышимый свист пуль, шелест, а иногда и вой осколков снарядов внушал страх. Продовольствие на пятачок не поступало сутками, и к тяжёлому ожиданию под беспрерывным обстрелом присоединялись голод и жажда. Раньше, в первые дни, когда к фашистам прибыло пополнение, они неоднократно пытались контратаковать войска дивизии, но, понеся при этом значительные потери, решили воздействовать на защитников пятачка психически, подвергая и их, и снабжавшую их переправу непрерывному миномётному и артиллерийскому обстрелу. Как правило, он продолжался до темноты, затем миномёты и артиллерия начинали бить по переправе, и всё равно в это время там велась работа.
Начсандив Исаченко постоянно находился на пятачке и лично руководил переправой раненых через Неву. Сопровождали их во время переправы санинструкторы и фельдшеры из полевых медпунктов, многие уже погибли. Часть среднего медперсонала находилась в окопах на пятачке и оказывала помощь раненым, ожидавшим ночной переправы. Иногда её приходилось ждать более суток.
По мнению Цейтлина, начсандив занимался не своим делом: это дело полковых врачей, а он должен был находиться на правом берегу, чтобы руководить работой медслужб всей дивизии. Если пребывание его в первые дни на плацдарме, когда предполагалось развитие и дальнейшее расширение наступления, и было оправдано, то присутствие там начсандива в это время казалось бессмысленным.
– Кажется, – добавил Иосиф Абрамович, – это начинают понимать и сам Исаченко, и командир дивизии. Кстати, нахождение последнего на противоположном берегу Невы вряд ли тоже оправдано, но Климову ставят в вину неумелую операцию по форсированию Невы, приведшую к огромным потерям, и, кажется, его вот-вот снимут.
Затем Цейтлин рассказал, почему он, собственно, очутился здесь, в батальоне, и какое задание получил от комиссара и прокурора. Описав, с каким трудом он переправился обратно, как их лодку продырявило несколько осколков, как был убит их перевозчик и вторично ранено несколько человек из переправлявшихся раненых, он сказал:
– Мы спаслись каким-то чудом. Лодка пошла ко дну в 10–15 метрах от берега, где, к счастью, оказалась глубина по грудь. Мы все, поддерживая наиболее тяжёлых раненых, побрели к берегу в ледяной воде (ведь был уже октябрь). Навстречу по воде к нам бежали штрафники, и, не обращая внимания на сыпавшиеся дождём осколки, вместе с подбегавшими санитарами подхватывали ослабевших раненых, укладывали их на носилки и бегом несли или, обняв, вели под сень огромных сосен, где в 100–150 метрах от берега в убогих землянках примостились полковые медпункты. Палаток они не развёртывали, так как первая же палатка, которую они попытались поставить ещё в самом начале боёв, была сбита артиллерийским снарядом, и все находившиеся в ней люди – врач, медсестра, санитары и несколько раненых – погибли. Так вот, – продолжал Цейтлин, – несмотря на трудности и опасности переправы, некоторые, наиболее несознательные бойцы, устав от сидения в окопах под непрекращающимся огнём, хотят с пятачка уйти и ищут для этого разные пути. Самый лёгкий и наиболее доступный путь – это получить ранение, но ранение такое, чтобы оно не грозило смертью, а только вывело бы из строя. Некоторые пытаются прострелить себе руку или ногу сами, а другие предпочитают «голосовать», то есть высовывают из окопа над бруствером руку, и почти всегда через несколько минут такого «голосования» какой-либо шальной осколок или пуля эту руку пробивает. Ранение есть – раненого из проклятого пятачка вывозят в медсанбат, лечат, эвакуируют в госпиталь Ленинграда. А там же ведь всё-таки спокойнее, чем на пятачке. Вот я и получил задание, – закончил свой рассказ Цейтлин, – помочь вам, врачам санбата, где в первой медицинской инстанции начинают по-настоящему хирургически обрабатывать рану, таких подозрительных раненых разоблачать. Прошу вас о каждом подобном случае немедленно ставить меня в известность, в дальнейшем я буду «лечить» их сам.
Слушая Цейтлина, Борис вспомнил, что ему приходилось видеть раненых в руки и в ноги, ранения которых, если пока и не внушали подозрения, то вызывали удивление как своим видом, так, главным образом, направлением пулевого канала. Он обсудил это с Цейтлиным.
Октябрь подходил к концу, близились ноябрьские праздники, но никто даже не думал о них. Все были настолько поглощены работой и различными мелкими делами по улучшению быта, маскировки и устройства отопления в медицинских палатках и прочими заботами, что как-то забыли о наступавшем празднике. Весь месяц стояла пасмурная погода, сопровождавшаяся частыми снегопадами. К началу ноября переправа раненых через Неву ещё более затруднилась. На реке появилась шуга и даже льдины, что замедляло передвижение лодок и подвергало их ещё большей опасности. Вместе с ранеными стали поступать обмороженные. Пока раненого после гибели лодки вытаскивали из воды, а затем везли до медсанбата в неотапливаемой машине при температуре воздуха иногда значительно ниже 0 градусов, он успевал основательно обмёрзнуть.
Стало совершенно очевидно, что во избежание излишних потерь нужно что-то экстренно предпринять, надежда была только на Исаченко. Командир дивизии Климов, наконец, направил его из первого эшелона дивизии во второй, чтобы решить вопрос с передвижением раненых. Он предложил заменить его кем-нибудь из полковых врачей. Начсандив передал свои полномочия по организации эвакуации с пятачка старшему врачу 41-го стрелкового полка Иванцову, а сам решил в эту же ночь переправиться на правый берег. Переправа для него оказалась неудачной: он получил серьёзное ранение.







