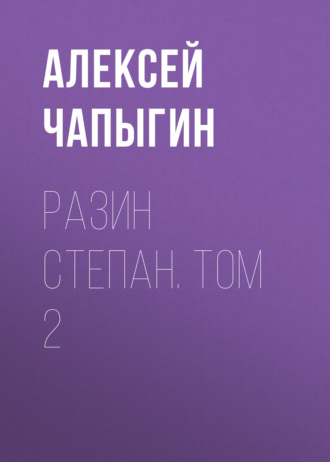
Алексей Чапыгин
Разин Степан. Том 2
«Укажи, государь, мне боротися,
С Кострюком молодцом поровнятися.
Уж коль я Кострюка оборю,
Ты вели с него платье сдеть…»
– Гей, крайчий мой, Федько!
– Тут я, атаман!
– Что ж ты весь народ без хмельного держишь! Пьют атаманы – козаки не должны отставать!
Открыли мигом давно выкаченные бочки с вином и водкой, казаки и ярыжки волжские, подходя, черпали хмельное, пили.
Среди казаков высокий, костистый шагал богатырского вида стрелец Чикмаз – палач яицких стрельцов. С ним безотлучно приземистый, широкоплечий, с бронзовым лицом, на лбу шрам – казак Федька Шпынь.
Оба они пили, обнимались и говорили только между собой.
– Вот соколы! Люблю, чтоб так пили.
Разин, как дорогую игрушку, осторожно обнимал персиянку. Обнимая, загорался, тянул ее к себе сильной рукой, целовал пугливые глаза. Поцеловав в губы, вспыхнул румянцем на загорелом лице и снова поцеловал, бороздя на волосах ее голубую шапочку, запутался волосами усов в золотом кольце украшения тонкого носа персиянки. Уцепил кольцо пальцами, сжав, сломал. Золото, звякнув о край братины, утонуло в вине.
– Господарь… иа алла! – тихо сказала девушка.
– Наши жены так не носят узорочье! А что же, старый? Гей, играй бувальщину!
Старику еще налили чару водки; он, кланяясь, мотался на ногах и, падая, сел, щипля деревенеющей рукой струны домры, продолжал:
Ище первую пошибку Кострюк оборол,
Да другую, вишь, Потанюшко!
Он скочил Кострюку на высоку грудь,
Изорвал на борце парчевой кафтан
Да рубашку сорвал мелкотравчату…
– Эх, соколы! Ладно, Петра, – добро, пьем!.. Взбудили меня от мертвого сна.
В вечерней прохладе все шире пахло олеандром, левкоем и теплым ветром с водой. Дремотно, монотонно с берега проплыл четыре раза повторенный голос муэдзина:
– Аллаху а-к-бар![34]
Голубели мутно далеко чалмы, песочные плащи двигались медленно, будто передвигались снизу песчаные пласты гор, – мусульмане шли в мечеть.
Слыша голос муллы, зовущий молиться, персиянка сжалась, поникла, как бы опасаясь, что далекие соотечественники увидят ее открытое лицо.
На середину палубы вышел Чикмаз, взъерошенный, костистый и могучий, заложив за спину длинные руки, крикнул:
– А ну, пущай меня кто оборет да кафтан сорвет!
Зная Чикмаза, молчали казаки; только его приятель Федька Шпынь протянул руки:
– Да я ж тебя, бисов сын, нагого пущу!
– Хо! – хмыкнул Чикмаз. – Знать, во хмелю буен? Ну, давай!
Взялись, и Чикмаз осторожно разложил на палубе Шпыня.
– Будет?
– Буде, Чикмаз!
Кое-кто из казаков еще пробовал взяться, Чикмаз клал всякого шутя.
Разин сказал:
– Вот это борец! Должно мне идти?.. Чикмаз – иду!
– Не, батько, не борюсь.
– Пошто?
– Не по чину! Зову козаков да есаулов – пущай за тебя идет Сергей.
Сережка махнул рукой и, зачерпнув ковшом из яндовы вина, сказал:
– В бою – с любым постою, в боротьбе – я что робенок!
– А ну, Мокеев? Силен, знаю, да оборю и его!
– Правду молыл Сергеюшко: в бою хитрости нет, до боротьбы, драки и я не свычен!
Казаки на слова Мокеева закричали:
– Эй, Петра, пущай не бахвалит Чикмаз!
– Вот разве что бахвалит!
– Выходи, бывший голова! – позвал Чикмаз.
– Кто был – забыл, нынче иной! А ну коли?
Тяжелый, сверкающий в сумраке доспехами, шатаясь на ногах, Мокеев подошел к борцу. Чикмаз расправил могучие руки, а когда взялись, Мокеев потянул борца на себя – у Чикмаза затрещало в костях.
– Ага, черт большой! С Петрой – не с нами! – закричали казаки, обступив.
Мокеев неуклюже подвинул Чикмаза вправо, потом влево и, отделив от палубы, положил; не удержавшись, сам на борца упал.
Крякнул Чикмаз, вставая, сказал:
– Все едино, что изба на грудь пала!
– Ай, Петра! Го-го, не бахваль, Чикмаз!
– Силен, да пожиже будешь! – кричали казаки.
– Силен был, а тут как теленок у быка на рогах!
– Ну, еще, голова!
– Перестань головой звать! Перепил я – в черевах булькает.
– Ништо-о! Только доспех сними, не двинешь тебя, силу твою он пасет.
Казаки подступили, сняли с Мокеева колонтарь.
– Ни черта сделает, – легше еще тебе, Петра!
– Оно, робята, впрямь легше.
И снова Чикмаз был положен. Вставая, сказал (слова звучали хмельной злобой):
– Не чаял, что его сатана оборет. Черт! Как гора!
Бороться было некому. Мокеев, взяв колонтарь, ушел к атаману. А там сверкнуло кольцо в ухе, вскочил на ноги Сережка, княжна вздрогнула от страшного свиста, закрыла руками уши.
– Помни, робята, сговор!
На крик и свист Сережки казаки вышли плясать. От топота ног задрожал корабль, заплескалась вином посуда, взревели трубы, разнося отзвуки по воде. Казалось, вместе с медными прыгающими звуками заплясали море и берег. Плясали все, кроме Разина и есаулов, даже старик Вологженин, вытолкнутый толпой, бестолково мотался на одном месте, тыча на стороны домрой. В море летели шапки. Сережка снова свистнул, покрыв звуки музыки, топот ног. Тогда на скамьях по бортам вспыхнули зажженные ярыжками факелы. При огне от пляшущих ломались тени, опрокидываясь в ночное синедышащее море. Плясали долго, атаман не мешал. Когда кончили плясать, Разин, подняв чашу, крикнул:
– Гей, соколы! За силу Петры Мокеева все пьем!
– Пьем, батько!
– За Петру-у!
Разин позвал:
– Чикмаз, астраханец!..
– Тут я, батько!
– Иди, с нами пей!
Чикмаз подошел. Разин, чокаясь и обнимаясь с Мокеевым, сказал Чикмазу:
– Знаю! Ловок, парень, и ядрен, без слова худа, только сила Петры не наша человечья… Чья – не ведаю… Но не человечья его сила!
Чикмаз выпил ковш вина и, утирая сивую всклокоченную бороду, сказал:
– Есть, батько, во мне такая сила, какой ни в ком нет!
– Пей, парень, еще ковш и поведай, какая та сила?
Чикмаз выпил другой ковш, снова утер рукавом кафтана бороду, сказал:
– Сила бою моего, батько, иная, чем у того, кто с тобой ходит!
– Не вразумлюсь!
– Да вот! Ежели на бочку сядет – ударю, богатырь падет, не высидеть! Пущай даже в кафтане сядет кто…
– Бахвалишь и тут! – сказал Мокеев. – Я нагой усижу, от разе што брюхо гораздо водяно.
– Усидишь, пять бочонков вина ставлю!
– Где у тя бочонки?
– Добуду! Голову на меч, а добуду у бусурман.
– Эх, ты! Стрелец, боец!
Мокеев пошел на палубу. Ярыжки с факелами обступили его. Он разделся догола и в ночных тенях при свете факелов казался особенно тяжелым с отвислым животом, весь как бронза. Чикмаз, особенно торжественный, будто палач перед казнью, крикнул:
– Козаки! Сыщите отвалок для бою. С Петры выиграю вино – будем пить вместях.
Принесли отвалок гладко струганного бушприта в сажень.
– Сколь бить, голова?
– Черт!.. Не зови головой, сказывал тебе – иной я. Бей пять! Высижу больше, да, вишь, черева повисли, и в брюхе вьет.
Бывший палач отряхнулся, одернул кафтан, но рукавов не засучал. С ухваткой, ведомой только ему, медленно занес над Мокеевым отвалок и со свистом опустил.
Мокеев крякнул:
– Отменно бьет! Не как все, едрено, дьявол! – И все же вынес, не пошатнувшись, пять смертельных для другого человека ударов.
– Сотник Петр Мокеев выиграл! – с веселым лицом крикнул Чикмаз. – Робята! Пьем, с меня вино-о… – захохотал пьяно и раскатисто, кидая отвалок.
Мокеев встал с бочки, охнул, пригнулся, шарил руками, одевался медленно и сказал уже протрезвевшим голосом, как всегда неторопливо и кротко:
– Ужли, робята, от того боя Чикмазова я ослеп?
Ликующие победой Мокеева пьяные казаки, помогая надевать ему платье, шутили:
– Петра! Глаз отмигается.
– Добро бы отмигаться, да черева огнянны, то со мной впервые!..
– Побил Чикмаза! Молодец, Петра, пьем! – громко сказал захмелевший атаман.
– Нет, батько, я проиграл свой зор.
– Что-о?
– Да не зрю на аршин и ближе…
– То злая хитрость Чикмазова?
Разин, вскочил, и страшный голос его достиг затихшего берега:
– Гей, Чикмаз, ко мне-е!..
– Чую, батько! – Чикмаз подошел.
– Ты пошто окалечил моего богатыря? Не оборот! Так зло взяло? Говори, сатана, правду!
– Не впервой, батько, так играем! По сговору, не навалом из-за угла и на твоих очах…
– Ну, дьявол, берегись!
Глаза Разина метнули в лицо Чикмазу, рука упала на саблю. Чикмаз пригнул голову, исподлобья глядя, сказал, боясь отвести глаза от атамана:
– Пущай, батько, Петра скажет. Велит – суди тогда!..
– Гей, Петра!
Мокеева казаки, держа под локти, привели к Разину.
– С умыслом бил тебя Чикмаз? С умыслом, то конец ему!
– Не, батько! Парня не тронь. С добра. Ты знаешь, я сел и сам вызвался, а бил деревиной, как все…
Разин заскрипел зубами:
– Цел иди, Чикмаз, но бойся! Эй, нет ли у нас лекаря?
Подошел черноусый казак самарский, распорядчик пира:
– Тут, Степан Тимофеевич, в трюму воет ученый жид, иман у Дербени, скручен, а по-нашему говорит, сказывал, что лекарь ен…
– Кто же неумной ученых забижает? У меня они будут в яме сидеть? То не дело!
– Я велел его скрутить, – ответил Сережка.
– Открутите еврея, ведите сюда: за род никого не забижаю, за веру тоже!
В длинном черном балахоне, со спутанными пейсами, в крови, грязный, без шапки, подошел взъерошенный еврей, поклонился, низко сгибаясь.
– Чем потребен господарю?
Разин приказал:
– Дайте ему вина! Еды тож.
Еврею дали блюдо мяса, кусок белого хлеба и кружку вина. Мясо он не стал есть, выпил вино, медленно сжевал хлеб.
– Теперь сказывай – что можешь?
– Господарь, прошу меня не вязать… Бедный еврей никуда не побежит, честный еврей! Я могу господарю хранить и учитывать его сокровища: золото, камни еврей понимает лучше других.
– Хранители, учетчики у меня есть – мне надо лекаря.
Еврей качнул головой:
– Господарь атаман, и лекарь я же…
– Ну вот, огляди его! – Разин показал на Мокеева, сидевшего с опущенной головой. – У него избиты черева, – оттого ли он потерял зрение? Скажи!
– Надо, господарь, чтоб козак был голый.
Мокееву помогли раздеться. От груди до пупа его живот был синий. Еврей ощупал Мокеева, приложил ухо против сердца, сказал:
– Оденься!
– Ну, что скажешь, лекарь?.. Надолго или навсегда он потерял зор?
– Господарь, бог отцов моих Адонай умудрил меня, ему я верю, его почитаю и слушаюсь, он повел меня в Мисраим[35], и там по книгам мудрецов учился я познавать врачевание. Эллины, господарь, учили, что около пупка человека – жизнь, называли то место солнечным, oт схожего слова: солнце – жизнь…
– Запутанно судишь, но я слушаю, говори, как можешь.
– Древние мудрецы Мисраима учили тоже, что около пупка жизнь человека и смерть. Они называли это иным словом: созвездие – в том месте сплетаются жилы. Если те жилы рассечь мечом, жизнь исчезнет.
– Я и без тебя знаю, что посечь черева смертно.
– Не гневайся, господарь. Поранить те жилы или избить много – опас от того большой. Есть жилы в том месте, ведающие слух, иные ведают зрение… У козака порвана жила зрения…
– Берешься ли ты врачевать есаула?
– Врачевать, господарь, берусь! Много ли будет от врачебы моей, не знаю, да поможет мне бог отцов, берусь, атаман!
– Иди с ним в трюм. Требуй, что надо. Поможешь есаулу, я тебя награжу и отвезу, куда хочешь, на свободу… Мое слово крепко!..
– Повинуюсь господарю и благодарю!
– Гей, слушайтесь еврея! Чего потребует, давайте! Где ты, Федор!
– Чую, батько!
– Ты все справы знаешь, проводишь учет и порядок, – отведи Мокеева с евреем в чистое место, в трюме есть такое, дай еврею умыться и белую одежду дай!
Еврей поклонился атаману:
– И еще много благодарю господаря!
7
Атаман с княжной, есаулами и казаками уплыл с ханского корабля на атаманский струг. На корабле остались у караула пять человек казаков, среди них Чикмаз. В трюме Петр Мокеев с лекарем-евреем да в услугу им два ярыжки. В синей, как бархат, мягкой и теплой тьме огней на палубе не зажигали. На корме с пищалью высокий, отменно от других, Чикмаз, старавшийся держаться в одиночку; остальной дозор на носу корабля. Казаки, приставив к борту карабины, усевшись на скамьи гребцов, курили, рассказывая вполголоса про житье на Дону и Волге. Один Чикмаз привычно и строго держал караул, возвышаясь черной статуей над бортом. Корабль тихо пошатывали вздохи моря. В синем на воде у кормы скользнуло черное. Чикмаз крикнул:
– Гей, заказное слово! Или стрелю!
– Не-е-чай! – ответило внизу.
В борт, где стоял Чикмаз, стукнул крюк с веревкой, въелся в дерево. По веревке привычно ловко вползла коренастая фигура с трубкой в зубах, пышущей огнем.
– Во, не узнал! Все мекал – куды мой Федько сгинул?
– Пути не боюсь, хоша бы стрелил. – Коренастый, покуривая, встал поодаль, голова на черном широкоплечем теле повернулась на нос корабля.
– Стой ближе… не чую… – сказал Чикмаз.
Коренастый придвинулся почти вплотную, прошептал:
– А ту, досказывай про себя… Я тебе на пиру все сказал…
– Скажу и я! Ведомо ли тебе, Федор, служил я боярам на Москве в стрельцах, от царя из рук киндяки да сукно получал за послуги?
– То неведомо…
– Вот! Перевели в палачи – палачу на Москве дело хлебное: за поноровку, чтоб легше бил, ежедень рубли перепадали…
– Вишь ты!
– Да… Вскипела раз душа, одним махом кнута на козле засек насмерть дворянина, а за тое дело шибнули меня в Астрахань, вдругорядь в стрельцы… В стрельцах, вишь, обидчик был: полуголова, свойственник Сакмышева, коего нынче в Яике утопили, обносчик и сыском ведал, – рубнул я его топориком, тело уволок в воду, башку собаки сгрызли, а гляжу – мне петля от воеводы! Я к атаману… Да зрю, и здеся в честь не попадешь. Сам знаешь: вместях бились с гилянским пашой, Дербень зорили, а все без добра слова… Норов же мой таков: выслуги нет, значит, держи топор на острее. Петруха Мокеев атаману зор застит – силен, что скажешь, в Астрахани его силу ведал, да мы чем хуже его?
– За себя постоим!
– Как еще постоим! Иному так не стоять… Хмелен я был, а во хмелю особенно злой деюсь и не бахвалю – от моей руки, Федор, никто изжил… Людей кнутом насмерть клал неполным ударом… Ядрен Мокеев, да с пяти боев не стать и ему. Атаман в него, что девка, влюблен: вишь, чуть не посек и, знаю, будет в худчем гневе от Петрухиной смерти. Утечи мне надо! Без тебя утечи – в горах пропасть, что гнусу в море; в горах – знаю я – кумыки с тобой водят приятство.
– Ясырь им менял, дуваном делился.
– Тебе за твою удаль тоже не велика от атамана честь.
– Не велика? А забыл в Яике, как и меня чуть не посек?
– Вот то оно… Пили, клялись, надумал утечи. Идешь?
– А ино как? Я только что на берегу двух аргамаков приглядел: уздечки есть, кумычана в горах седла дадут. Свинец, зелье, два пистоля и сабля запасены…
– У меня справлено тоже – пистоль и сабля. Текем, друг? По спине мураши скребут: а ну, как атаман наедет? Мокеев же в худом теле сыщется – беда!
– Куда ладишь путь?
– В Астрахань. Ныне другой, Прозоровской, воеводит, битого полуголову не сыскали.
– Я на Дон к Васе Лавреичу…
– Кто ен?
– Сказывал тебе про Ваську Уса?
– О, того держись, Федор! В Астрахани будешь, сыщи меня: в беде укрою, в радости вином напою.
Чикмаз снял с плеча пищаль, поставил к борту.
– Прости-ко, железная жонка, в Астрахани другую дадут!
Коренастая фигура, царапнув борт, стукнула ногами внизу. Высокая за ней тоже скользнула в челн. Когда черное плеснуло в ширину синевы, на носу дозорный крикнул:
– Э-эй!
– Свои… тихо-о…
– Пошто караул кинули-и?
– Проигран-ное Мо-ке-е-еву ви-но-о добы-ть!
Казаки заговорили, пошли по борту:
– Задаст им Сергей Тарануха – наедет дозор проверить!
– Чикмаз, а иной кто?
– В костях приметной, ты не познал?
– Не, сутемки, вишь…
– Федько Шпынь, козак!
– О, други, то парни удалые – вино у нас скоро будет!..
8
Трубами и барабанным боем сзывались казаки на ханский корабль. Разин сидел с Сережкой и Лазункой, пил вино на ханском ложе. Вошли к атаману Серебряков, Рудаков и новый есаул Мишка Черноусенко, красивый казак, румяный, с густыми русыми бровями. Наивные глаза есаула глядели весело, девичьим лицом и кудрями Черноусенко напоминал Черноярца. Разин сказал:
– А ну, Лазунка, поштвуй гостей есаулов вином.
Лазунка налил ковш вина, поднес севшим на коврах внизу есаулам. Подошел самарский казак Федько, приглядчик за атаманским добром и порядком.
– Батько, Петра Мокеев подымается.
– Радость мне! Должно, полегчало ему?
– Того не ведаю – лекарь там.
Медленно, с толстой дубиной в руке по корме к атаману шел Мокеев.
– Добро, Петра! Иди, болящий.
– Иду, Степан Тимофеевич, да, вишь, ходила становят.
– Все еще худо?
– Зор мой стал лучше, только в черевах огневица грызет.
Мокеев подошел, сел тяжело.
– Пошто в колонтаре? Грузит он тебя!
– В черевках огняно, так железо студит мало, и то ладно…
– Лазунка, вина Петре!
– От тебя, батько, спробую, только в нутро ништо не идет.
Мокеев, перекрестясь, хлебнул из поданного ковша, вино хлынуло на ковер.
– Вишь вот! Должно, мне пришло с голодухи сгинуть.
– Что сказывает лекарь?
– Ой, уж и бился он! Всю ночь живых скокух для холоду на брюхо клал, и где столько наимали – целую кадь скокух! Мазями брюхо тер, синь с него согнал, и с того зор мой стал лучше, а говорит: «В кишках вережение есть, то уж не ладно…»
Казакам, дозору на корме судна, Разин крикнул:
– Гей, соколы! Чикмаза астраханца взять за караул.
Из дозора вышел казак, подошел, кланяясь.
– Батько, сей ночью Чикмаз утек с козаком Федькой Шпынем, дозор кинули, текли в сутемках. Сбегая, дали голос: «Что-де идем к бусурманам вина добыть!» Становить их было не мочно. Утром ихний челн нашли, взяли с берега, был вытащен до середины днища на сушу.
– И тут сплоховал! Перво – дал играть игру, кою еще под Астраханью я невзлюбил, другое – не указал палача имать тут же… В мысли держал оплошно, что-де из чужих, гиблых мест сбегчи забоится, да про Шпыня недомекнул – бывалый пес! Горы ему ведомы, горцы, должно, знают его. Эх, сплоховал Стенько! Воры убредут без накладу. Иди, сокол!
Казак ушел.
– А не горюй, Степан Тимофеевич! Чему быть – не миновать. Сколь раз я бой на бочке высиживал, и ништо было… Тут же сел, как рыбина, – рот не запер… Игра эта тогда ладно сходит, когда человек напыжится, тогда брюхо натянуто – дуй, сколь надо… Я, вишь, перепил и обвиснул, удары ж были не противу иных.
– Эх, Петра! Не легше от того мне, что обвиснул ты. Воры убрели, и не пора нынче ногти грызть… Созвал я вас, есаулы молодцы, вот: иные из вас ропщут, пошто я не держу слова, не посылаю послов шаху. А надо ли? Пущай круг решит: хотим мы сести на Куру-реку, то путь от Шемахи… Горы перешед, подхватит степь, той степью в ступь коня два дни ходу… Зде Кура-река течет ширью с Москву-реку, по той реке деревни, торги есть, базары… Сказывали мне бывалые люди: тут через реку долгой паром слажен, как мост на цепи сквозной… На том перевозе купцы деньги дают с вьюка. Только сядем за шаха, на промысел гулебный нам не ходить… То еще проведал я: шах много зол на разоренье Дербени. Хан гилянской, не дождав его указу, сам наскочил. Дербень же мы наскоком разгромили. Не серчаю на Петру Мокеева и названого брата Сергея – их дело Дербень, только после ее шаху посольство не надобно. А думаю я еще разгромить берег и, укрепясь в заповеднике, перезимовать в Кизылбаше да на Куру-реку отплыть, а там уплавить на Дон.
– Посольство, батько, шаху и так не надобно.
– Вот и я решил то же, Петра.
– Вишь, шах крепко слажен с Москвой… В Астрахани был, ведал, что к шаху от Москвы, от шаха в Москву завсе гончие были: кои с товарами купцы шаха, от нас целовальники, приказчики за товарами. А ну, скажем, шах приберет нас в сарбазы, так ему тогда с Москвой сказать – прости! Знает он, какие головы козаки, а сыщики царские завсе вьют коло шаха, в уши ему злое дуют про козаков! Нет, с шахом нам не кисель хлебать…
– Ты, Петра, видишь правду, я – тоже. Дума моя о том – не слать послов. Да и как кину я боярам народ русский? Кровь отца и брата не смыта – горит на мне, волков надо накормить досыта боярским мясом, и в Москве быть мне, казнить или самому казниться, а быть!
Встал Сережка:
– Батько! В Русии не жить нам – на Дону матерые козаки жмут, тянут вольных к царю… Москва руки на Дон что ни год шире налагает… За зипуном идти к турчину, каланчи да цепи сквозь воду, много смертей проскочить, мимо Азова и ходу нет! На Волге место узко, в Яике, в Астрахани головы да воеводы… Здесь же жить сподручно: Кизылбаша богата, место теплое, жен коих возьмем, иных с Дона уведем, семьи тоже; морем не пустят, то не один Федько Шпынь горы знает – ведаю горцев и я, а на Москву путь нам не заказан!
Встал Серебряков:
– Так, Степан Тимофеевич, и я мыслю, как Сергей, твой брат!
– Соколы! А как шах с нами не смирится?
– Смирится, батько! Что зорили городы, это только силу ему нашу кажет, устрашит: «Не приму-де козаков, разорят Персиду». Примет! Ходил я с Иваном Кондырем веком, много зорили тезиков, а Ивана шах манил, – добавил Григорий Рудаков, старик.
– Эй, соколы, надо бы претить вам, да Серега, Иван и Григорий поперечат, одни мы с Петрой за правду. Ну, кого же брать к шаху?
– А то жеребий! – крикнул Сережка.
– Ждите! Сколь людей наладить: из козаков ли то, или из есаулов?
– Козаки ништо скажут – из есаулов!
– Ладьте, ежели, жеребий двум! Больше не дам, дам третьего в толмачи из тех персов, что без полона добром пришли служить мне… Говор наш смыслит, речь шаху перескажет, того и буде! Тебя, Петра, болящего, не шлю, в жеребий не даю…
– Ставь и меня, батько! На бой я долго негож, може навсегда, а сидя на месте смерть принять хуже, чем за твою правду!
– Вишь вот, други! Петра мекает, что у шаха – смерть… Надо послать людей маломочных; сгинете вы, удалые советчики, мое дело будет гинуть. Тут еще сон видал нехороший, не баба я – снам не верю, только тот сон не сон, явь будто.
– А ну, батько, какой тот сон?
– Скажи, Степан Тимофеевич!
– Да вот… Лежа с открытыми глазами, видел, что свешник у меня возгорелся, а свечи в ем, что посторонь середней, одна за одной зачали гаснуть… Иные вновь возгорались и меркли – долго то длилось… Потом одна середняя толстая осталась, и свет тое свечи кровав был…
Лазунка сказал:
– Тут, батько, Вологженин. Чует он тебя, сны хорошо толкует. Гей, дедко!
Из угла ханской палаты вышел старик в бараньей шапке с домрой под мышкой.
– Ты чул, дидо, сон атамана? Толкуй! – приказал Сережка.
Разин велел дать старику вина.
– Пей и не лги! Правды, сколь ни будет жестока, не бойся.
– Того, атаманушко, не боюсь! Ведаю, справедлив ты. Что посмыслю, скажу. – Старик передал Лазунке пустой ковш, утер мокрую бороду, сказал: – Кровава свеща – сам атаман, свещи посторонь – те, что ближни ему боевые люди: один пал, другой возгорелся…
– Вот ежели правда, соколы, то как я пошлю есаулов к шаху… Что значит, дидо, огонь мой кровав?
– То и младеню ведомо, атаманушко! Кровью гореть тебе на Руси… Свет твой кровавой зачнет светить сквозь многие годы. Ты не дождался, когда потухл он?
– Нет, старик!
– Вот ото… и ежели в тебе сгаснет – в ином возгорится твой свет…
– Добро, старой! Пей еще, сказал так, как надо мне, знаю: боевой человек кратковечен, вечна лишь дорога к правде… На той дороге кровавым огнем будет светить через годы, ино столетия наша правда!
Серебрякову, подставившему ковш, налили вина, он поклонился Разину, сказал:
– Ты без жеребья спусти меня, батько, к шаху! Я поведаю ему твою правду так, что и Москву кинет, даст нам селиться на Куре.
– Эй, Иван! А шах тебя замурдует? Ведь легше мне, ежели руку, лишь не ту, что саблю держит, отсекли… Я глазом не двину, коли надо спасти тебя, – дам отсечь руку.
Серебряков поклонился, сказал:
– А все ж спусти!
– Без жеребья не налажу, Иван!
– Сергей, мечи жеребьи!
– Лазунка, черти! Идти Ивану, Григорию, Петру ставить ли, батько?
– Ставь, Сергей! За правду перед шахом мне прямая дорога.
– Петру идти, Михайлу, Сергею, Лазунке.
Разин, хлебнув вина, сказал:
– Легче мне на дыбе висеть, чем слушать, как вы, браты, суетесь в огонь!
Сережка ответил:
– Ништо, батько! Даст-таки шах место, запируем и зорить воевод пойдем, а за горами нас не утеснить.
Лазунка написал имена есаулов, завернул монеты в кусочки материи, вместе с именами кинул в шапку деда-сказочника.
– Тряси, старик! Вымай, Рудаков! Два древних пущай судьбу пытают.
– Пустая! Пустая! Еще пустая! Серебрякову идти! Пустая! Пустая! А ну? Еще пустая! Мокееву Петру идти.
– Вишь вот, кто просился, тот и покатился, – сказал древний сказочник, вытряхивая жеребьи.
– Что, батько? Я еще гож на твою правду! Сказывать ее буду ладом. Одно лишь – шаху не верю: московской царь – Ирод, перской – сатана! Един другого рогом подпирают. Иду, Степан Тимофеевич.
– Эх, Петра! – Разин опустил голову, лицо помутилось грустью, прибавил необычно и очень тихо: – Воле вашей, соколы, не поперечу… – Поднял голову: – Чуйте! О бабах кизылбаши не очень пекутся, как и у нас. Княжну не помянем, пущай Мокеева Петры память со мной пребудет. Но есть полоненник, сын хана Шебынь; удержит кого из вас аманатом шах, сказывайте ему про Шебыня и весть дайте – обменю с придачей.
– Ладно, батько. Теперь нам дай толмача.
– Того берите сами, кой люб и смыслит по-нашему.
9
Подьячий, дойдя до старого торгового майдана, не пошел дальше; народ толпами теснился на шахов майдан; рыжий подьячий слышал возгласы:
– Шах выйдет!
– Повелитель Персии идет на майдан!
Рыжий, проходя мимо торговцев фруктами – шепталой, изюмом, винными ягодами и клейкими розовыми сластями, – думал:
«Без дела к шаху не надо… Ходит запросто, не то что наш государь. Наш в карете. Шах, будто палач, норовист по-шальному: кого зря пожалует, ино собакам скормит…»
К середине площади провели нагого человека.
«А, своровал? Казнят!»
Рыжий любил глядеть казнь, потому спешно пошел. На середине площади стоят каменные столбы дважды выше человека, с железными кольцами, в кольцах ремни.
Бородатый палач, голый до пояса, в красных, запачканных черными пятнами крови шароварах. На четырехугольном лице большой нос, приплюснутый над щетиной усов. Оскалив зубы, палач всунул кривой нож в тощий живот преступника.
– Иа! Иа!
Палач, не глядя на казненного, встав к нему задом, громко закричал:
– Персы! Великий шах наш спросил эту собаку, которую я казнил: «Кто ты?» Он же ответил милостивому нашему отцу Аббасу: «Человек, как и ты, шах!» Непобедимый шах сказал: «Ты – собака, когда не умеешь говорить со мной!» – и велел взять его… Всякого отдаст мне великий, кто со злобой будет отвечать солнцу Персии.
– Слава шаху Аббасу! – закричал рыжий.
Толпа молчала.
– Пусть не кричат про величество дерзких словес, слава непобедимому шаху!
Толпа молча расходилась…
«А, черти крашеные! Не по брюху калач, что шах человечьим мясом собак кормит? Зато и не лезу к нему на глаза. – Рыжий пошел к майдану. – А ну, что их клятая абдалла[36] лжет?»
Подошел к дервишу. Дервиш сидит на песке в углу майдана спиной к каменному столбу, перед ним раскрыта древняя книга. Тело дервиша вымазано черной нефтью от глаз до пят, запах застарелого пота разносится от него далеко. Бородатый, в выцветшей рваной чалме, в ушах на медных кольцах голубые крупные хрустали. Перед дервишем слегка приникшая толпа. Впереди, выдвинувшись на шаг, перс с больным желтым лицом, под безрукавым, цвета серого песку, плащом со скрипом ходит грудь, на тонкой шее трепещет толстая жила, из-под голубой чалмы на лицо и бороду течет пот. Перс с испугом в глаза хрипло спросил дервиша:
– Отец! Поведай, сколько еще жить мне? Бисмиллахи рахмани рахим… скажи?
– Аз ин китаб-э шериф мифахмом, кэ зандегонии ту си у, сэ соль туль микяшэд![37]
Рыжий фыркнул и отошел:
«Клятой, лгет: естество истлело, чем тут жить тридцать лет? Мне бы такое предсказал – оно ништо…»
В другой толпе, окруженный, но на большом просторе, стоял человек, увешанный сизыми с пестриной змеями; змеи висели на укротителе, как обрывки канатов.
Укротитель без чалмы, волосы и борода крашены в ярко-рыжий цвет, бронзовое тело, худое, с резкими мускулами, до пояса обнажено. По голубым штанам такой же кушак.
На песке в кругу людей ползала крупная змея с пестрой головой. Укротитель ударил кулаком в бубен, висевший у кушака: все змеи, недвижимо пестрящие на нем, оттопырили головы и зашипели. Ползущая по кругу тоже подняла голову, остановилась на минуту и поползла прямо в одну сторону. Толпа, давая змее дорогу, спокойно расступилась. Рыжий отскочил:
«А как жогонет гад? Сколь раз видал их и не обык!»
Укротитель ударил в бубен два раза, змея поднялась на хвосте с сажень вверх, мелькнула в воздухе, падая на плечи укротителя. Один человек из толпы выдвинулся, спросил:
– В чем моя судьба?
– Map махазид суй машрик, бояд рафт Мекке бэрои хадж. Ин кисмат-э туст![38]
Рыжий, боясь подойти близко к укротителю, крикнул по-русски:
– Эй, сатана! Наступи гаду на хвост – поползет на полуночь. С того идти не в Мекку, а к бабам для приплоду или в кабак на гульбу!
Не зная языка московитов, укротитель покачал головой, чмокнув губами…
На шаховом майдане ударили медные набаты, взревели трубы – шах вышел гулять. А на торговый майдан входили трое: двое в казацких синих балахонах и третий в золоченых доспехах.
– «Вот те святая троица, Гаврюшка! Хошь не хошь, к шаху путь, – то они!»
Серебряков поддерживал Мокеева. Мокеев с дубиной в руке медленно шел, сзади – толмач из персов.
Рыжий подошел, кланяясь, заговорил, шмыгая глазами:
– Робятки! Вот-то радость мне, радость нежданная… От Разина атамана, поди, до шаха надо?
– От Степана Разина, парень. Тебе чого? – спросил Серебряков.
– Как чого? Братие, да кто у вас толмач? Ломаный язык – перс? Он завирает ваши слова, как шитье в куделе. Замест услуги атаману дело и головы сгубите – шах человек норовистой.
– Ты-то так, как тезики говорят, смыслишь? – спросил Мокеев, тяжело дыша, пошатываясь. – Горит утроба! Да, жарко, черт его! Водушки ба испить?
– Окромя персицкого надо – так арапский знаю, говор их тонко ведаю, а вы остойтесь: шах еще лишь вышел, не разгулялся, сядьте. Толмач вам воды пресной добудет, здесь она студеная!
– Ты куды?
– Платье, рухледь обменю! К шаху пойдем – шах не терпит людей в худой одежде.
– Поди, парень. Мы дождем.
На каменной скамье казаки сели, толмач пошел за водой. Рыжий юркнул в толпу.
– Начало ладное, свой объявился, по-ихнему ведает – добро! Обскажет толком.
– Как будто и ладно, Петра, да каков он человек?
– Справной, зримо то. Жил тут и обычаи ведает. Вишь, сказал: «Шах не любит худой одежи». А кабы не заботился, то было бы ему все едино – худа аль хороша одежа…
– Оно пожалуй что так!
Рыжий вскоре вернулся в желтом атласном кафтане турецкого покроя, по кафтану голубой кушак с золочеными кистями на концах. На голове вместо колпака летняя голубая мурмолка с узорами.
– Скор ты, брат! – сказал Мокеев. – То добро!
– Хорош ли?
– Ладен, ладен!
– Веди коли ты нас к шаху.
– Я тут обжился и нажился с деньгой – ясырем промышляю, мне все – не то улицы – закоулки ведомы. Ладно стрелись – дело ваше разыграю, во!
Толмач перс молчал.
Рыжий заговорил с толмачом по-персидски.
Серебряков спросил перса:





