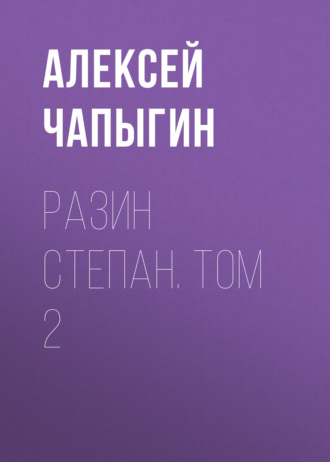
Алексей Чапыгин
Разин Степан. Том 2
Москва последняя
1
Как по приказу, во всех церквах Москвы смолкли колокола. Тогда слышнее раздались голоса толпы:
– Слышите, православные! Воров с Дону везут…
– Разина везут!
На Арбате решеточные сторожа широко распахнули железные ворота, убрали решетки. Сами встали у каменных столбов ворот глядеть за порядком. Толпа – в кафтанах цветных, в сукманах летних, в сапогах смазных, козловых, сафьянных, в лаптях липовых и босиком, в киках, платках, шапках валяных – спешила к Тверским воротам. С толпой шли квасники с кувшинами на плече, при фартуках, грязные пирожники с лотками на головах – лотки крыты свежей рогожей. Ехали многие возки с боярынями, с боярышнями. Бояре били в седельные литавры, отгоняя с дороги пеших людей.
– И куды столько бояр едет?
– Куды? А страсть свою, атамана Разина, в очи увидать…
– Ой, и страшные его очи – иному сниться будут!
За Тверскими воротами поднимали пыль, кричали, пробираясь к Ходынскому полю новой слободой с пестрыми домиками. Оборванцы-питухи, для пропойного заработка потея, забегали вперед с пожарными лестницами, украденными у кабаков и кружечных дворов.
– Сколько стоит лестница?
– Стоять аль купишь?
– Пошто купить! Стоять.
– Алтын, борода ржаная, алтын!
– Чого дорого?
– Дешевле с земли видать.
– Ставь к дому. Получи…
Лезли на потоки и крыши домов; наглядев, сообщали ближним:
– От Ходынки-реки, везут, зрю-у!
– Стали, стали.
– Пошто стали-то?
– Срамную телегу, должно, ждать зачнут…
– Давно проехала с виселицей, и чепи брякают.
– Так где ж она?
– Стрельцы, робята! Хвати их черт…
Стрельцы, с потными злыми лицами, сверкая бердышами, махая полами и рукавами синих и белых кафтанов, гнали с дороги:
– Не запружай дорогу! Эй, жмись к стороне!
– Жмемся, служилые, жмемся…
– Вон и то старуху-божедомку прижали, не добредет в обрат.
Тех, кто забрался на крыши и лестницы, стрельцы не трогали.
– Эй, борода, надбавляй сверх алтына, а то нагляделся! Слазь!
– Лови деньгу, черт с тобой, и молчи-и!
– Дело!
Купцы и купчихи, у домов которых по-новому сделаны балконы, распахнув окошки, вылезали глядеть. Толпа кричала на толстых, корячась вылезающих на балконы:
– Торговой, толкни хозяйку в зад – не ушибешь по экому месту!
– Воров на телеге, вишь, везли в бархатах, шелку.
– А те – на конях хто?
– Войсковые атаманы.
– Ясаулы!
– Ясаулы – те проще одеты.
– Во и срамная телега движется. Стретила.
– Палачи и стрельцы с ей, с телегой.
– Батюшки светы мои!
– Чого ты, тетка? Пошто в плату? Кика есть, я знаю.
– Отколе знаешь-то?
– Знаю, помершую сестру ограбила – с мертвой кику сняла, да носить боишься.
– Ой ты, борода козлом!
– Платье палачи, вишь, бархатное с воров тащат себе на разживу.
– Со Стеньки платье рвут, Фролка не тронут!
– Кой из их Фролка-т?
– Тот, что уже в плечах и ростом мене…
– А, с круглым лицом, черна бородка!
– Тот! В Земской поволокут.
– Пошто в Земской? Разбойный приказ к тому делу.
– Земской выше Разбойного делами. От подьячего чул я…
– В Разбойной!
– Вот увидишь куда.
– В Земском пытошны речи люди услышат, и городских на дворе много.
– Кто слушает, того самого пытают; да ране пытки прогонят всех со двора.
– Гляньте, гляньте! Лошадей Разиных ведут, ковры золотными крытых.
– Ехал, вишь, царем, а приехал худче, чем псарем.
– Уй, что-то им будет?
– Э-эх, головушка удалая! Кабы царем въехал – доброй к бедноте человек, чул я.
– Тебе, пономарь Трошка, на Земском мертвых писать, а ты тут!
– Ушей сколь боярских, и таки слова говоришь!
– Не един молвлю. Правду, люди, ищу я, и много есть по атамане плачут.
– Загунь, сказываю! Свяжут тебя, и нас поволокут. Подь на Земской, доглядишь.
Черный пономарик завозился на лестнице:
– И то пора. Пойду. К нам ли повезут их?
– К вам, в Земской, от подьячего чул ушьми.
– Вишь, Стеньку переодели в лохмы, а того лишь чуть оборвали.
– Кузнецы куют!
– Горячие с луком, с печенью бычьей!..
– Давай коли! А то долго ждать.
Бородатый с брюшком мещанин подошел к пирожнику.
– Этому кушат подай в ушат – в корыте мало!
– Бери с его, парень, дороже!
– Бедной не боле богатого съест! С чем тебе?
– С мясом дай.
– Чого у их есть-то! Продают стухлое.
– Наша невестка-т все трескает. И мед, дура, жрет.
– Квасу-у! С ледком! Эй, прохладись!
– Поди-ка, меды сварил!
– Квасок малинный не худче меду-у.
– Малиновый, семь раз доливанной – кто пьет, других хлядючи рвет.
– Гляньте-е! На телегу ставят, к виселице куют Стеньку!
– Плаху сунули, палач топор втюкнул.
– Ой, ба-атюшки-и!
– Конец ватаману! Испекут.
– Стрельцы! Молчи, народ!
– Эй, люди! Будем хватать в Разбойной и бить будем…
– Тех хватать и бить, кто государевых супостатов добром поминает!
– Пойдем, робята, в Земской!
– Не пустят.
– Так коло ворот у тына постоим.
– Пойдем!
– И я.
– Я тоже.
– Я в Кремль, в Разбойной.
– Не дально место – Земской с Разбойным по-за стену.
– И-и-идем! Завернули телегу срамную.
– Жду-ут чего-то…
– Фролко к оглобле куют.
– И-де-ем!
2
От сгорка Москвы-реки, ежели идти к собору Покрова (Василия Блаженного), то против рядов суконной сотни раскинут огороженный тыном Земский приказ. Ворота во двор пространные, с высокими столбами без верхней связи. Эти ворота всегда распахнуты настежь днем и ночью. Посреди широкого двора мрачная приземистая постройка из толстых бревен с перерубами отдельных помещений. Здание стоит на фундаменте из рыжего кирпича. Верх здания плоский, трехслойный, из дерна, обросшего мхом, с деревянным дымником в сажень кверху. Спереди крыши две чугунных пушки на дубовых поперечных колодах. Крыша сделана дерновой с умыслом, чтоб постройка не выносила деревом лишних звуков. Внизу здания у крыльца обширного с тремя ступенями таких же две пушки, изъеденных ржавчиной, только более древних. Эти нижние по бокам крыльца пушки в стародавние времена лежали на месте не выстроенного еще тогда Василия Блаженного и были обращены жерлами на Москву-реку. Сотни удалых голов сведены отсюда на лобное место, и немного было таких, побывавших здесь, кому не сломали бы ребер клещи палача. Раза три в год, по царскому указу, шорники привозили в приказ воза ремней и дыбных хомутов[149]. Окна приказа, как во всех курных постройках, вдоль бревна, узкие кверху, задвигались ставнями без слюды и стекол – сплошными. Летом из-за духоты окошки не задвигались, а любопытных гнали со двора палками. Москва была во многом с садами во дворах, только на проклятом народном дворе Земского приказа – вонючем от трупного духа – не было ни деревца.
В этот день небо безоблачно. Но солнца, как перед дождем, нет: широкая, почти слитая с бледным небом туча шла медленно и заслоняла блеск солнца. После заутрени на Земском дворе пестрели заплатанной одеждой и лохмотьями божедомы, старики, старухи, незаконнорожденные, бездомные малоумки-детины. Они, таская, укладывали по заведенному порядку к тыну мертвецов и боялись оглядываться на Земской приказ. По сизым, багровым или иззелена-бледным лицам мертвых бродили мухи, тучами жужжали в воздухе. Воронье каркало, садясь на острия тына, жадно глядело, но божедомы гнали птиц.
– Родных не сыщет – Троицы дождется, зароют, одежут[150].
– Не дождется! Вишь, теплынь, и муха ест: розваляется…
– Дождется, зароют крещеные.
– Вора Стеньку Разина сюды везут.
– Эх, не все собраны мертвы, надо ба сходить нам – вся Москва посыпала за Тверски ворота.
– Куды ходить? Задавят! Сила народу валит глядеть.
– Сюды, в пытошные горницы, поведут вора?
– Ум твой родущий, парень!
– Чого?
– Дурак! Чтоб тебе с теми горницами сгореть.
– Чого ты, бабка?
– Вишь, спужал Степаниду… В горницах, детина, люди людей чествуют, а здеся поштвуют палачи ременными калачи!
– Забыл я про то, дедко!
– Подь к окнам приказа, послушай – память дадут!
– Спаси мя Христос!
Подошел в черном колпаке и черном подряснике человек с записью в руках.
– Ты, Трофимушко, быдто дьяк!
– Тебя ба в котыгу нарядить да батог в руки.
– Убогие, а тож глуму предаетесь – грех вам! Сколь мертвых сносили?
– Ой, отец! Давно, вишь, не сбирали, по слободам многих нашли да у кремлевских пытошных стен кинутых.
– Сколь четом?
– Волокем на шостой десяток третьего.
– Како рухледишо на последнем?
– Посконно!
– Городской?
– Нет, пахотной с видов человек.
– Глава убиенного имется ли?
– Руса голова, нос шишкой, да опух.
– Резан? Ай без ручной налоги?
– Без знака убоя, отец!
– Пишу: «Глава руса с сединкой, нос шишковат – видом опоек кабацкой…» Сине лицо?
– Синька в лице есть, отец!
– То, знать, опоек!
Пономарь каждое утро и праздники между утреней и обедней переписывал на Земском мертвых; попутно успевал записать разговоры, причитания родных убитых, слова бояр, дьяков, шедших по двору в приказ. Хотя это и преследовалось строго, но он с дрожью в руках и ногах подслушивал часто пытошные речи – писал тоже, особенно любил их записывать: в них сказывалась большая обида на бояр, дьяков и судей. Пономарь часто думал: «Есть ли на земле правда?» Счет мертвецов пономарь сдавал на руки бирючей, кричавших на площадях слобод налоги и приказания властей. Не давал лишь тем своих записей, которые в Китай-городе читали народу царские указы, «особливые». После неотложных дел бирючи оповещали горожан:
– Слышьте, люди! На Москве убитые – опознать на Земском дворе вскорости.
Переписчика называли «звонец Трошка». Он еще усерднее стал делать свое добровольное дело, когда за перепись покойников его похвалил самолично царский духовник, в церкви которого Трошка вел звон. Пономарь хорошо знал порядки Земского двора и по приготовлениям догадывался – большого ли, малого «лихого» будут пытать. Теперь он прислушался, отодвинулся в глубь двора от толпы божедомов и воющих по мертвым горожан и тут же увидел, как во двор приказа, звеня оружием, спешно вошел караул стрельцов в кафтанах мясного цвета – приказа головы Федора Александрова. Караул прогнал со двора божедомов и городских людей. На пономаря в черном подряснике не обратил внимания, считая его за церковника, позванного в приказ с крестом.
По площади за собором Покрова встала завеса пыли.
– Ве-е-зу-ут!
– Ой, то Стеньку!
– Страшного! Господи Исусе!
Во двор приказа двигалась на просторной телеге, нарочито построенной, виселица черного цвета. Телегу тащили три разномастных лошади. На шее Разина надет ошейник ременной с гвоздями, с перекладины виселицы спускалась цепь и была прикреплена кольцом железным к ошейнику. Руки атамана распялены, прикручены цепями к столбам виселицы. Ноги, обутые у городской заставы в опорки и рваные штаны, расставлены широко и прикручены также цепями к столбам виселицы. Посредине телеги вдоль просунута черная плаха до передка телеги, в переднем конце плахи воткнут отточенный топор. Справа телеги, цепью за железный ошейник к оглобле, был прикручен брат Разина Фролка. В казацком старом зипуне шелковом желтом он бежал, заплетаясь ногу за ногу и пыля сапогами.
Фролку не переодевали, как Разина: с него сорвали только палачи в свою пользу бархатный синий жупан, такой же, какой был на атамане. Прилаживая голову, чтоб не давило железо, Фролка то багровел лицом, то бледнел, как мертвый, и мелкой рысцой бежал за крупно шагающими лошадьми. Хватаясь за оглоблю, чтоб не свалиться, время от времени выкрикивал:
– Ой, беда, братан! Ой, лихо!..
Голова атамана опущена, полуседые кудри скрыли лоб и лицо. С левой стороны головы шла сплошная красная борозда без волос.
– Ой, лишенько нам!
– Молчи, баба! В гости к царю везут козаков – то ли не честь? А ты хнычешь… Да сами мы не цари, што ли? Вишь, вся Москва встрету вышла. Почет велик – не срамись… Терпи!
– Ой, лишенько, лихо, братан!
– Попировали вволю! Боярам стала наша честь завидна… Не смерть страшна! Худо – везут нас не в Кремль, где брата Ивана кончили… Волокут, вишь, в Земской на Красную…
У ног атамана, справа и слева, по два стрельца с саблями наголо, кафтаны на стрельцах мясного цвета. Стрельцы крикнули Разину:
– Не молвить слова!
– Молчать указано вам!
Разин плюнул:
– Народу молчу, не надобен боле, – сказываю брату.
– Молчать!
Пономарь, отойдя за приказ, увидал, что в конце двора один малоумный божедомок, Филька, остался возиться над мертвыми. Обернувшись к воротам и заметив телегу с виселицей, атамана прикованного и бегущего Фролку, начал бить в ладоши да плясать, припевая:
Воров везут!
На виселицу,
На таскальницу.
Будут мясо жарить,
Пряженину стряпать.
«Этот ничего не боится – юродивой!»
Пономарик подошел к малоумку, тряхнул русой курчавой головой и, строго уперев в потное лицо парня черные любопытные глаза, сказал:
– Чему смеешься, шальной? Плачу подобно сие зрелище! Плачь! Филька, плачь скорее!
– Ой, дядюшко Трофим! А можно по ворам плакать?
– Надо плакать! Не бойсь – плачь.
Парень, изменив лицо, завыл и побежал навстречу срамной телеге, крича громко:
– Бедные вы! Горемышные! Беднюсенькие разбойнички, израскованные!..
Караульные стрельцы, изловив бегущего, толкнули вон за ворота, поддав в зад ему сапогом:
– Во те, дурак!
Парень упал в воротах, обронил не по ноге обутые опорки и, босой, убежал прочь, громко причитывая:
– Беднюсенькие! Ой, ой, мамонька!.. Кайдальнички!
«Кабы таким быть, всю бы правду можно было кому хошь сказать», – подумал пономарь.
Страшная телега пропылила по двору и боком повернула к приказному крыльцу. Телегу окружили караульные стрельцы, подошли два палача в черных полукафтанах, окрученные вместо кушаков кнутами. Вышли из приказа кузнецы, сбили с Фролки цепь. Стрельцы отвели Фролку в сени приказа.
Старший кузнец, бородатый, в кожаном фартуке, с коротким молотком и клещами, пыхтя, влез на телегу, сбил с Разина цепи.
– Эй, густобородый! Колокола снял – чем звонить буду?
– За тебя отзвонят! – ответил кузнец.
Стрельцы крикнули:
– Молчать!
Когда же атаман слез с телеги, подступили к нему. Он, нахмурясь, отогнал их, махнул рукой:
– Не лапать!.. Свой путь знал – ваш ведом.
Широкая дверь приказа захлопнулась, звякнули засовы. По стене здания к пытошным избам пробирался, оглядываясь, черный пономарь. Встал недалеко от окон, ждал, слышал Фролкины мольбы и стоны. Начал писать, когда ругательно заговорил Разин. Потом услыхал треск костей и свист кнута.
– На дыбу вздели? Спаси бог!..
Пономарь считал удары, насчитал сто, потом страшный пономарю голос воеводы, князя Одоевского. Разин говорил спокойно и ругательно. Пономарь записал его слова руками, все более и более дрожащими, спрятал исписанный листок за пазуху, из колпака достал другой и с опаской оглядел двор. Караульные стрельцы ушли вместе с Разиным в приказ, кузнецы возились около телеги, отпрягли лошадей и увели. Больше никого не было на дворе. Пономарь снова приникнул около окна. Теперь он не слышал слов, слышал лишь, как трещит подпекаемое на огне тело, слышал, как громко дышит Разин. Потом голос воеводы, злой, с бранью:
– Скажешь ли хошь мало, вор?
– Чего сказать тебе, дьявол?.. Все знаешь. А вот слушай…
Атаман заговорил, его слова с дрожью в теле записал Трошка-пономарь.
– Палач, бей ноги! – крикнул воевода.
Трещали кости громче, чем на дыбе, – пономарь понял:
«Ослопьем бьют!.. Ноги?..»
Пономарь перекрестился и, пятясь, дрожа всем телом, пошел от окна медленно, чтоб не зацепить, не стукнуть и незаметно уйти. Он разбрелся взад пятками на пушку, сел на нее, поднялся уходить и вдруг прирос к земле, одеревенел…
На крыльцо вышел сам воевода Земского приказа. Раскинув полы скорлатного кафтана, шарил волосатыми руками в пуговицах шелковых штанов, бормотал громко, отдувался:
– Фу, упарился! Не человек! Сатана, оборотень! Окромя лая, ни слова! Государю не можно казать пытошную запись – сжечь надо.
Увидав черную фигурку пономаря, не стесняясь того, что делал, и продолжая делать, заорал:
– Ты зачем здесь, поповский зауголок? А?!
Пономарик почувствовал, как стал маленьким, будто муха, задрожал с головы до ног, присел и, отодвинувшись немного, пал в землю, стаскивая с головы колпак, запищал не своим голосом слезно:
– Прости грешного, воевода князь! Увяз я тут с записью убойных.
Из колпака, когда пономарь его сорвал с головы, упала бумага.
– Я тя прощу! Разом все грехи скажешь. Ты кто есть?
– Воевода милостивец, есмь я причетник и звонец Григория Неокесарийского церкви, государева-царева духовника.
– Андрея Савиновича?
– Его, его, милостивец князь!
– Не ладно, что протопоп тут. Волоки ноги, сволочь! Уж кабы не Андрей, я б те дал память, чтоб знал, как водить ушами у пытошных срубов… пшел!!
Пономарь не помнил пути, по которому его целого вынесли из страшного места. Он очнулся у себя в подвале под трапезой. Наскоро рухлядью, попавшей под руку, завесил окна. В углу от горевшей лампадки перенес огонь и на столе зажег две восковые свечи. Дрожь в руках и ногах не переставала, он сунулся на скамью к столу, охнул:
– Ох ты, господи!.. Целого унесло? Уй, батюшки! Не сиди, Троха, не сиди, делай! Ох ты, господи!..
Пономарь скинул колпак, вскочил, присел к лавке, из коника вытащил пачку бумаги, бормотал:
– Пытошная? Да! Еще пытошная?.. Да! А та самая, кою велит брюхатый сжечь?.. Она где? Да где ж она?.. Уронил! Ой, уронил! – Пономарь съежился, весь похолодев, и вдруг вспомнил: – За пазухой!.. Тут? Слава те, владыко! Ой, как на пытке, на огне жгли… ноги ломили… спаси мя! – Холодной рукой выволок из-за пазухи смятые листки: – Сжечь! Сжечь! Поспею?.. – Оглянулся на дверь, встал, задвинул щеколду и, разгладив листки, читал то, что говорил на допросе Разин:
«Ха-а! Мой тебе клад надобен? Тот клад не в земле, а на земле. Тот клад – весь русский народ! Секите меня на клочье, не дрогну. Живу я не вашей радостью… Пожога вам не залить по Руси ни водой, ни кровью, от того пожога, царевы дьяволы, рано ли, не ведаю, но вам конец придет! Каждая сказка, песня на Волге-реке сказывать будет, что жив я… Еще приду! Приду подрать все дела кляузные у царя да с голутьбы неволю скинуть, а с вас, брюхатые черти, головы сорвать! И метну я те головы ваши с царем заедино в Москву-реку…»
Прочитав, пономарик перекрестился:
– Сжечь? А може, не придут искать? Ой, Троха, сгоришь с такими письмами!
Церковный сторож прошел мимо, в окно прокричал старческий голос:
– Занавесился! Чай, спишь, Трофимко? Скоро звонить…
– Чую, Егорушко!
Пономарь, торопливо скомкав записки, сунул их за образ Николы, на божницу.
– Може, потом сожгу, ежели, бог даст, самого не припекут.
Надев колпак, Трошка-звонец вышел на двор и полез на колокольню. Чем выше поднимался он, тем легче казался на ногах; воздух другой, и людей не опасно. Он подумал, встав на любимые подмостки к колоколам:
«Опаску пуще держать буду, списывать пытошное не кину же, правду ведать надо и коим людям сказывать… Кабы седни не налез пузатого черта воеводу, прости бог, и страсти моей не было бы…»
Пономарь глянул на Москву-реку, на Кремль; в сизоватом тумане, искрясь, рыжели главы соборов. Спускаясь к горизонту, выбрело солнце.
– А ну, Иван Великой! Звони первой, пожду я…
Подле Ивана Великого сверкали главы и цепочки золоченые крестов храма Воскресения. С южной стороны Кремля, на Ивановой площади, белел стенами, пылал золотом, зеленел крышей и башенками пестрый храм черниговских чудотворцев, Михаила и Федора, а там столб колокольни одноглавой, узкий, серый, тянулся ввысь к золоту других – мученика Христофора церковь.
– Прости, Бог! Хоть ты, песий лик, угодник, – звони!
Но колокола кремлевские молчали. Молчал Успенский, Архангельский собор, молчал Никола Гостунский, и Чудов монастырь молчал.
– Рано, знать, окликнул меня Егорушко?..
Оглядел звонец Трошка Москву-реку: рыжий от заката ее заворот за Кремль отливал медью с сизым. Из-за кремлевских стен по воде брызгали, ползли золотыми змеями отблески церковных глав, а против Кремля на своей стороне, за Москвой-рекой, почти у ног Трошкиной колокольни, каркало воронье, стучали топоры плотников. Недалеко от берега стрельцы, белея полтевскими кафтанами, копали большую яму, втыкали в нее колье. Таскали близ ямы тесаные бревна, взводили лобное место. Два подгнивших прежних лобных чернели в стороне; около них в вырытых ямах пестрели головы и черепа казненных, засиженные воронами.
«Вот те правда, звонец! – подумал, вглядываясь в работу стрельцов и плотников, пономарь. – Вишь, привезли… Как зверей, оковали, а сказывают сие «именем государя». Что он делал? Народ от крепости слободил? Бояр вешал… Ежели я и послушал у пытки, да зато, вишь, чуть самого не утянули как лихого. Теперь так: пытаешь за правду – пошто же боишься народу показать? А коли боишься, понимай: творишь неправду, беззаконие чинишь, от страху перед правдой народ изводишь…»
Прислушался пономарь и как бы задумался:
«Молчит Кремль. Так нате, бояра! Я атаману Разину панафидное прозвоню. Заливай, голубчики, поплакивай!.. Сказывай народу, как тяжко за тебя, народ, заступаться… Э-эх! Прогонит меня на сей раз протопоп от звона!»
На полянке за Москвой-рекой долго плакали колокола протяжно и гулко.
Мимо идущие крестились, говорили:
– Кто-то большой нынче помер!
Кремль тоже звонил – мрачно, торжественно, славя мощь и правду царскую.
Сходя с колокольни, Трошка-звонец не слышал больше стука топоров, – на Козьем болоте лобное место Разину было готово.
3
В теремном дворце, в палате сводчатой, расписной по тусклому золоту, царь принимал донских атаманов. Одет был царь в малый наряд Большой казны: в зарбафный узорчатый кафтан до пят, шитый жемчугами, унизанный лалами и изумрудами по подолу, а также и по широким концам рукавов. Наряд был без барм и нарамников. На голове шапка с крестом, но не Мономахова. И сидел царь не на троне, а на кресле голубом, бархатном. Дебелое лицо его с окладистой черной бородой и низким холеным лбом сегодня веселое, глаза глядели на все приветливо.
По лавкам, с боков палаты, сидели бояре с посохами в золотых парчовых кафтанах и летних мурмолках.
Царский посох с крестом на рукоятке стоял у отдельного стола, где сияла алмазами шапка Мономаха. Дьяков в палате не было.
Кинув бараньи шапки на лавки, не доходя царской приемной, бороздя атаманскими и есаульскими посохами по полу, кланяясь царю ниже пояса, вошли в палату казаки: седой и бритый, с усами вниз, с серебряной серьгой в ухе атаман Корней Яковлев в бархатном красном жупане с кованым кружевом по подолу, длинном до пят, под жупаном в голубом запоясанном кафтане; с ним рядом худощавый бородатый и костистый, в таком же наряде, Михаил Самаренин и так же точно одетый, с хитрыми глазами, полуседой и рыжеватый Логин Семенов. За ними четыре есаула в суконных долгополых жупанах, темных. Под жупанами расшитые шелками почти такой же длины кафтаны красные, скорлатные. У кушаков есаулов подоткнуты ременные плети, есаулы, как и атаманы, с черными посохами, набалдашники посохов плоские, серебряные. Все, как атаманы, так и есаулы, при саблях под жупанами, черкесских, без крыжей. За атаманами и есаулами черноволосый усатый писарь в синем кафтане, также без шапки.
Когда кончил церемонию отдельных поклонов царю, атаман Корней, тряхнув седой косичкой на голом черепе и склоняя голову в сторону писаря, сказал, отстраняя казаков с дороги:
– Чти, хлопец, пройдя вперед, великому государю наше козацкое послание всей реки.
Писарь, шагая тяжелыми сапогами и стукнув закаблучьем сапог, поклонился, начал громко и раздельно:
– «Божиею милостью великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великия и малыя и белыя Русии самодержцу, – старшина козацкая и все войско донское челом бьет…»
– Читай, служилой, и кое выпусти лишнее, не труди много нашими поклонами великого государя! – тихо сказал писарю Михаил Самаренин.
Писарь, как бы не слыша атамана, читал:
– «По твоему, великого государя, приказу и по грамотам ходили мы, холопи твои, под Кагальник-город для вора, изменника Стеньки Разина и брата его Фролки. И милостию, государь, Божиею и помощью атамана Корнея Яковлева того вора Стеньку Разина и брата ево Фролку в Кагальнику-городке взяли и у него, вора, в то же время взяли три аргамака серых да три ковра на золоте и которые, государь, люди с тем вором, изменником Стенькою, на Волге были, и они нам, холопям твоим, в расспросе сказали, что-де те аргамаки и ковры везли из Кизылбаш в бусе к Москве купчины в дар тебе, великому государю. И те, государь, аргамаки и ковры послали мы, холопи твои, к тебе, великому государю, нынче же заедино с ворами, изменником Стенькой Разиным и братом ево Фролкой, а воров изменников и аргамаки и ковры повезли к тебе, великому государю, к Москве наши атаманы матерые козаки – Корнило Яковлев, Михайло Самаренин, Логин Семенов да есаулы…»
– Ну, буде, писарь. Ковры золотные, кизылбашские, великий государь, самолично мною сданы на руки дьякам Тайного приказу, кои ведают заморскими товарами, аргамаков же атаман Логин Семенов приказал казакам отвесть в Конюшенный приказ, и цедулу о том имеем. Воров тоже, оковав у заставы: Стеньку на срамную телегу, Фролко по-за телеги приковав, сдали стрельцам Земского приказу, – проговорил Корней.
Царь, махнув рукой, сказал:
– Знаю о том, атаманы молодцы, кого и что привезли вы. – Перевел глаза на Корнея Яковлева и прибавил: – Тебя, старый, буду вот поносить худыми словами при всех. – Царь говорил, не меняя веселого лица, он радовался безмерно, так как с кремлевской стены видел своими глазами, когда провозили на Красную площадь грозного атамана.
– Приму все на старую голову, великий государь!
Хитрый старик низко поклонился.
– Допрежь лая на твою старую голову опрошу: правда ли довели мне сыщики, что ты, старый атаман, с моим государевым супостатом, изменником Стенькой, ночами пиры водил и дары имал? А дарил он тебе шубу рысью, шапку соболью и саблю кизылбашскую адамашку?
– Правда-истина, великий государь! Пировал со Стенькой, и не раз пировал, и посулы его имал, кои названы… А спрошу я тех, кто довел: как же было по-иному делать? Как вернул он, великий государь, правда, на малое время, не дойдя до Синбирска, от самарских гор, и тут все матерые козаки страху приняли… Сила у его большая – гикнет, и конец Нижнему Дону. Он же, вор, дома матерых козаков зорил, а коих и в воду сажал и мне же первому грозил: «Посажу Корнея в воду!» Церковка строилась, спретил, попов погнал: «Сажают с Москвы-де попов, потом воевод посадят с дыбой, чего на вольном Дону не бывало!» С молодняком свои порядки установил, и мы молчали, великой государь. Попрекал нас, что «девок боярышнями-де уделали, чиберками[151], заперли по горницам, чтоб над шитьем слепли да горбы наживали, а я-де хочу всех молодых с моими козаками перевенчать, как на Астрахани, без разбору – матерый козак или то голь перекатная». И венчал, государь, без попов, как в старину, на майдане, по сговору. Я с ним пировал, оберегая государевы порядки, и дарил он меня, государь… А как посекли его твои, государевы, воеводы под Синбирском да погубили козацкую голутьбу, и вернул он не к нам, а в Кагальник…
Корней остановился, как бы обдумывая, что сказать.
– Говори, атаман, я внимаю.
– Так вот внимай, великий государь! Приехал я к нему гостем, пустил он меня. Оглянул я Кагальник и диву дался: укрепы в ем наделаны таковы, что год стой под городом и жги голую землю – везде бурдюги изнарыты, строеньишко поверх земли легкое – рядишки для торгов, а в городке, чую по звону оружия, людей еще немало, и Гуляй-поле у них под боком – там не избыта крамола. И стал я снова пировать с изменником, государь, и познал я, что посечен он крепко – рука правая сабли не держит. А как в пущий хмель он вошел, я и пустил в город матерых козаков да втай дал приказ подтянуть войско, которое в Черкасске слезно умолил стоять за тебя, великого государя. Пировали мы с ним, обнявшись ходили, и ласково звал он меня хрестным. Я же мекал, государь, захватить изменника Стеньку со всем его родом и корнем…
– Так, атаман! Так когда-то делал любимый мой боярин Ховрин.
Один боярин встал, поклонился царю и поправил его:
– Киврин Пафнутий, великий государь!
Корней атаман тоже сказал:
– Киврин, великий государь! И стоял он встарь у меня же.
– Боярин и ты, атаман, я знаю, что сказал: боярин Ховрин, пошто, того не ведаю, родителя моего просил именовать себя Кивриным.
Боярин поклонился и сел.
Атаман продолжал:
– И тут, государь, не выдержали сговора со мной матерые, зазвали в Кагальник верное войско, заране времени бой заварили. Воровская Стенькина жонка Олена с двумя детьми – один уж козак и ружья свычен, другой недоросль – укрылись в бурдюгу да палить по нас зачали и немало матерых уклали… Я указал ночью обрыть их в бурдюге, огня пустить в нутро – так и кончились, не попали на суд твой воровские, государь, сородичи… Связали мы изменников, свезли в Черкасской, а Кагальник ровно с землей сделали. Ковры и аргамаков, о коих пишут козаки, тогда же взяли. Взяли, да чую я, шевелится Гуляй-поле… Хоша рейтары твои, великий государь, в подмогу нам пришли по моей же грамоте и просьбе, да чуялось мне: крови много будет, а под шум и схитят, гляди, изменника. И зачал его я в своем дому от матерых укрывать да пировать зачал, и валялся он в моем дому пьяной… Я же выжидал. Матерые стали кричать про меня, государь, что я изменник твоему имени, – терпел все… А как сговорил его, что поедем с ним и Фролкой в Москву бить головами и государь-де царь наши вины отдаст, усомнился он, но вышел к голутьбе и не приказал ей в бой идти: «Приеду-де из Москвы, тогда…» Для утехи матерым обрядил я в его одежу Фролку, и на паперти Черкасского, оковав, посадил. Ночь пала, спустил. И вез я их, великий государь, изменников, в шелку-бархате и грозу от Дона отвел… Пировал я, великий государь, – кто иное скажет! – с изменником дружбу вел.
Царь встал с места:
– Подойди, атаман Корней Яковлев, да облобызаю тебя за послугу и ум!
Старик, уронив посох, спешно подошел к царю, царь поцеловал его в голову, а хитрый старик, поцеловав царскую руку, пал в землю:
– Теперь, великий государь, вольный Дон голутвенный не колыхнется! Голову с него сняли, а руки-ноги пойдут вразброд. Покорны будут имени твоему государскому!
– Спасибо, старик! Подарки тебе у меня на всякий случай есть, и знал я, что прав ты.
– Суди, государь, милостиво, а я сказал тебе, не кривя душой, правду.
– Всем вам спасибо, атаманы молодцы, есаулы и козаки! Еще пришлите к Москве тех, что были со Стенькой изменником на Волге и о чем писали: «Кои люди у вас в расспросе были».
– На Дону, великий государь, – сказал Корней, – сыскался вор, есаул Ларка Тимофеев, то его дошлем особо.
– Верю и ждать буду. Отныне тоже укажу вам: не принимать на Дон в козаки беглых холопей с Москвы и иных городов, а для порядка, чтоб мое имя стояло у вас высоко, налажен мною на Дон воевода Косогов с войском драгун и рейтар.





