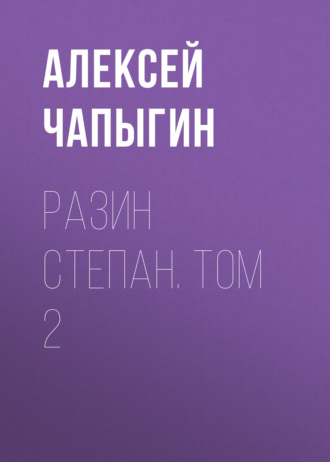
Алексей Чапыгин
Разин Степан. Том 2
– Близ едина лишь стена монастырска, каменна!
– Город не пожжем, пейте с нами!
Многие из горожан приставали к стрельцам и пили.
Прясла кружечного двора горели огнями факелов. Как черные свечи, воткнуты факелы меж жердей – на пряслах стены. Целовальники, опасаясь побоев, сбежали, кинув двор на хозяйничанье стрельцов. В питейной избе, за стойкой вели счет в свой карман «напойные деньги» стрельцы. В огнях факелов по стенам и прилепленных к стойке сальных свечей скакали скоморохи с настоящими медведями и ряжеными козами. За длинным питейным столом появились среди стрелецких шапок и бархатные красные с кистями – сынков[116] Разина. На столе зажелтели подметные листы; никто не читал их, кроме переодетых воеводиных сыщиков. Сыщики подбирали осторожно письма, говорили меж собой:
– Рукописанье Митьки подьячего!
– Вор окаянной!
– Чуй, что бархатная шапка лжет!
Бархатные шапки кричали похабные слова про воеводу, восхваляли богатство, щедрость и славу боевую грозного атамана: «Как он, батько, плавает по синю морю на кошме чудодейной и на ней по небу летает».
– А, ждите! Седни в Астрахань залетит весь огнянной!..
20
Дозор по городу вел и понуждал горожан, кои не шли в работу к стенам, князь Михаил Семенович с конницей в черных бурках. Князь Михаил ездил с факелом в руке, с обнаженной саблей в другой; черкесы с фонарями, притороченными к луке седла, чтоб не гасли свечи, ехали шагом. Черный воздух был недвижим и тепел. Князь заскакивал на черном коне вперед, бороздя сумрак мутным отблеском факела, панциря и посеребренного шлема с еловцем. Горожане, подвластные воеводе, таскали и возили к стенным башням воду, котлы и камни. Черный город, шлыкообразный вверху, понизу то серел, то мутно белел в бродячих огнях. На стенах города зажглись костры, освещая рыжие башни и полуторасаженные зубцы стен. Под командой матерого конного стрелецкого десятника с широким безволосым, безбровым лицом, Фрола Дуры, по городу, кроме князя Михаила, ездили конные стрельцы. От кабаков и с кружечного пьяные стрельцы шли в кремль. Воевода еще не запер ворот кремля, ждал с донесением нужных людей и сыщиков. Сойдясь на дворе воеводы, стрельцы кричали:
– Закинь, воевода, город крепить!
– Подай жалованье!
Прозоровский в колонтаре, сложив мисюрский шлем на синюю с узором скатерть стола, сидел на совете в горнице. Против него за столом – древний митрополит. Саккос и митра лежали, отсвечивая радугой драгоценных камней в огнях от свечей, на скамье в углу горницы. Приглаживая черную рясу с нагрудным крестом левой, правой рукой старик, привычно в крест сложив пальцы, двигал неторопливо по камкосиной скатерти и говорил, топыря на воеводу клочки седых бровей, тряся полысевшей головой:
– Ох, сыне! Давно надо было укрепить город… Ныне же нужное время, много нужное! Мятутся люди. Слышишь, как ломят дом твой?
– Я, отец святой, ко всему худчему уготовлен.
– А паства, сыне? Твоя паства воинская, моя же – всечеловеческая… Ту и иную мы распустили, яко негодные пастыри.
– Не иму вины в том, отче. В стрельцах не волен был. Боярами да великим государем не мне одному, всем воеводам указано: «Порядков стрелецких чтоб не ведать…»
– А худо сие! Воински дела правь, да воинскую силу не ведай… Како так?
– Такова воля великого государя! Теи делы сданы головам да пятидесятникам и иным. Гей, подкрепиться нам дайте! – встав и подойдя к дверям горницы, приказал воевода. – Еще прибавить огню!
Тихо, почти неслышно на зов князя вошла с поклонами воеводша, внесла на серебряном подносе хмельной мед, коврижки, виноград и белый хлеб. За хозяйкой, также чуть слышно, двигались две девицы черноволосые в нанковых сарафанах, с повязками цветной тесьмы по головам. Поставили на стол два трехсвечника, зажгли свечи.
– Того жду, господин мой, Иван Семенович!
Воеводша в зеленом атласном шушуне[117], в кике, по алому бархату золотые переперы, приложила бледное лицо к желтой руке повыше кисти, сказала чуть слышно:
– Благослови, преосвященнейший владыко, грешную…
Митрополит не взглянул на боярыню, – он считал грехом останавливать глаза на женщинах, – перекрестил перед ее грудью воздух и в сторону уходивших девушек перекрестил так же. Воеводша поклонилась мужу, сказала:
– Господин мой, князь Иван Семенович! Слышишь ли? Стрельцы гораздо хмельны и огнянны с факелами, лезут, шумны. Имя твое поносят, ломят двери, жалованье налегают…
– Ой, Федоровна, боярыня, чую, денег нет дать им, а слово сказано – дать!
Митрополит поднял над столом желтую руку:
– Сыне мой, друже, Иван князь! Выди к бунтовщикам, вели идти им на двор к монастырю у часовни Троицы. Я же иду в монастырь, из своей казны дам деньги.
– Отец духовный! Много задолжен без того я тебе…
– Тленны блага земные, сыне! Живы станем, ту сочтемся, преставимся Богу – Господь зачтет.
Боярыня, уходя, не заперла дверей горницы, в двери почти вбежал юноша, земно поклонился воеводе, потом так же митрополиту. Старик перекрестил подростка. Юноша сказал воеводе:
– Батя! Пусти меня оружного на стены, хочу быть ратным.
Воевода встал, погладил сына по темно-русым длинным волосам, заботливо одернул на юноше измятую синюю чугу и, строго глядя в зеленоватые большие глаза подростка, ответил:
– Жди, Борис! Не пора идти из дому – не чуешь ты, как хмельные бунтовщики дом ломят?
Сын ушел, воевода вышел на балкон. За окнами мотались головы и факелы, с треском гудело дерево дверей, звенели заметы.
– Эй, пожога пасись, воевода-а!
– С добра подай наши деньги-и!
Прозоровский перегнулся через балясы перил, крикнул в пестрый сумрак двора:
– Робята! Идите к часовне Троицы – из монастыря дадут деньги, а вы не мешайте молящимся!
– Добро!
– Хто молится – пущай.
– Мы же будем кадить – у святых бороды затрешшат!
Митрополит, отведав кушанья, стоял, стуча посохом в пол, призывая слугу.
Воевода, вернувшись, тряс головой и кулаками.
– В иные времена за скаредные речи и богохуленья быть бы многим на пытке… Нынче вот молчать надо…
– Великие беды грянут на нас, сыне!
Вошел митрополичий служка, поклонился воеводе, взял вещи, саккос и митру, подошел к старику и, поддерживая, повел из дому. Воевода с трехсвечником, провожая митрополита, говорил:
– Мыслю я и надеждой малой утешен – выплатим деньги, многие утихомирят себя… Беда лишь в том, что воров из тюрем расковали, от этих не уберечься бунта… одного повесили на стене… Посланца разинца…
– Сыне мой, не едины стрельцы… Молись Богу, да спасет нас! Горожане, недалек час, идя ко кресту, целуя святыню, злые лики являли. От горожан и иных многих погибель наша…
– Да, отец! Князь Семен – явный изменник: не идет с нами и нигде не являет себя ратоборцем государева дела… Дом же его на балчуге есть, из его дома ворота тайные за город ко рвам… Пасусь его, отче!
– То лишне мыслишь, Иван! Князь Семен не дерзнет с ворами идти…
– Благослови на ночь, святый!
– Не святый, аз грешный… Во имя Господа благословлю раба Ивана. Не мятись! Пути Господни не прейдеши без воли Его.
Проводив за двери митрополита, Прозоровский вернулся в горницу. Жена княгиня, видимо, ждала его, вошла следом за ним.
– Федоровна! Скажи дворецкому Тишке, чтоб приказал обрядить моего коня в боевую справу да немедля конюшие привели бы бахмата на монастырский двор. Иду дать стрельцам жалованье, а после быть надо у стен города…
Боярыня заплакала, обняла мужа:
– Сумнюсь о тебе, хозяин мой, Иван Семенович!
– Не духом падать… крепиться надо, Федоровна! Пожили в грехах, должно, время пришло принять за то, что Бог судил. Прости-ко!
Князь позвал двух домочадцев слуг да подьячего Алексеева, вышел к часовне. Стрельцы на площади, раздвинув круги меж себя, плясали. Иные кричали, зловеще светя факелами, отсвечивая топорами:
– Кидай, чернцы, молебны петь!
– Тяните панафиду воеводе!
– Жалованье дайте, коли же воевода казну растряс!
По монастырскому двору видно было в широко открытые ворота шедших черных людей с сундуками и мешками.
– Браты-ы, гей!
– Казна еде-е-т!
– Ай да певуны кадильные!
– Под рясой порток нет, да, вишь, деньги брячут!
На ширине монастырского двора поставили стол и скамьи для воеводы, с боков на подставках фонари зажигали монахи. Воевода сел рядом с Алексеевым, из сундуков брал горстями деньги, клал на стол, считал. Алексеев на длинном, склеенном из полос листе записывал имя, отчество, прозвище и чин получателя. Получив деньги, стрельцы уходили со двора на площадь в круг пляски.
– Эй, браты! Кто денежной, айда на кружечной, там скоморохи и музыка!
Получившие жалованье ушли из кремля.
21
Объезжая с черкесами белый город, от белых каменных лавок и амбаров торговой площади армян, персов и бухарцев князь Михаил разъехался в кружечный двор, окруженный огнями факелов. Вооруженные пьяные стрельцы на глазах князя прошли нестройной толпой по обширному двору в питейную избу. В сенях избы громкий голос пел хмельно и басисто, тонкие голоса подпевали, изредка на отдельных местах песни ударяли в накры[118]:
Волки идут за удалыми в ход,
Гей, выходите с ножами вперед.
Скормим бояр мы, дьяков отдадим,
Хижы, поместья, суды запалим!
Память боярам вчиним…
Ударили в накры, продолжали:
Будет пожива волкам здесь ли тут!
Чуют удалых, волки идут.
Жги! Пали!
Снова били в накры.
Князя разозлила песня и вид пьяных стрельцов, он дал команду:
– Эй, не въезжая на двор кружечного, стройтесь… не выпускайте с двора питухов! Покажу, как играть воровские песни… доскачу конных стрельцов, разом здесь всех мятежников решим!
Сверкая панцирем и саблей, князь отъехал. Горцы на расстоянии друг от друга в десять локтей выстроились кругом двора. Отыскивая стрельцов на потухающем пожарище кабака близ Спасо-Преображения, князь наехал на человека в синем жупане и запорожской шапке; от головней пожарища шапка ярко рыжела. Человек, так показалось князю, воровски озирался, шел, подпираясь недлинным копьем. Заметив князя с факелом, в панцире, свернул в сторону спешно; князь поскакал: по воздуху веяла пышная борода, светился шлем. Михаил Семенович крикнул:
– Стой, вор!
Князю показалось, человек прибавил шагу.
– Стой, дьявол!
Человек в казацком платье приостановился, повернул бледное лицо с пятнами:
– Пошто, князь Михайло, гортань трудишь? Я – астраханец Федька Шелудяк!
– Ты вор! В воровском платье.
– Хожу – какое сошлось.
– Лжешь! То рухледь – дар от вора Стеньки!
– Не дарил! Не твое дело!
– А, вот! – Князь поднял над головой тяжелую саблю с золоченой елманью.
– На, прими! Не жаль.
Шелудяк взмахнул копьем, древко фукнуло ветром, кинутое сильной рукой. Сабля князя и тело с падающим факелом запрокинулись. Человек, оглянувшись, быстро исчез во тьме. Князь не упал с коня, ноги запутались в стременах, губы прошептали:
– Ра-а-ту-й…
Он все больше оседал затылком на спину коня. Конь остановился… Широколицый Фрол Дура со стрельцами разъехался в князя. Стрельцы с фонарями и факелами осветили место кругом, но никого не было. На коне, изогнувшись на спину, лежал Михаил Семенович. Древко татарского копья, поблескивая, желтело, его острие пронзило горло князю под подбородком, прошло до затылка, задержалось стальным подзатыльником шлема.
– Беда, парни! Вот беда! И кто тыкнул?
– Конной, должно? Поганой: вишь, копье татарско!
– Парни, почуите да сыщите, нет ли ездового кого?
Стрельцы, рассыпая огнями, поехали в разные стороны. Фрол Дура снял князя, не слезая с коня, уложил младшего Прозоровского поперек седла, зацепил большим сапогом поводья княжеской лошади. Забрав убитого и ведя лошадь, поехал ступью в кремль.
– Беда, беда! – твердил он.
Его нагнали стрельцы.
– Никакого следу!
– Ездовых никого, Фрол, никого…
– Знать, планида такова. Эх, князь!
В кремле спешились стрельцы, внесли убитого в часовню, положили на полу ближе к алтарю, у возвышения. Народ в ужасе толпился вокруг. Монахи, прилепив свечи в головах князя, зажгли их и кадили. Князь Михаил лежал с оскаленными крупными зубами, запрокинув голову, пышная борода закрывала рану, но кровь текла по плечам панциря. Стрельцы на площади плясали, били в негодный воеводский набат, притащенный со двора воеводы. Никто, кроме одного стрельца, не кинул взгляда, когда проносили в часовню убитого, а тот один сказал другому:
– Должно, еще пятисотника кончили? Волокут на панафиду.
– Пляши! Битых дворян немало будет.
На монастырском дворе кругом стола, где сидел воевода, шумели, спорили, даже грозили. Воевода молчал. Он ничего не видел, кроме протягиваемых рук да Алексеева сбоку себя.
– Сколько дать?
Получив ответ подьячего, давал деньги, говорил одно и то же:
– Пиши, Петр, пиши, кому и сколько!
– Чую, ась, князинька, не сумнись.
Сзади Алексеева стоявший монах нагнулся к уху подьячего, шепнул:
– Убили крамольники Михаила князя! В часовне Троицы он – у гробницы преподобного Кирилла…
Алексеев вздрогнул, а когда воевода согнулся к сундуку, сказал:
– Мы, ась, князинька, раздадим… Монахи помогут – я испишу… Ты вздохни к Богу в часовне, да скоро соборную откроют – в церковь пройдешь…
– Боюсь! Без меня тебя ограбят.
– Не тронут! Пьяны, да еще порядок ведут… счет помнят…
– Ну и ладно! Трудись, Петр!
Воевода протолкался к часовне, снял у входа шлем и, широко перекрестившись, земно поклонился. Подымаясь от поклона, услыхал бой часов: восемь – то значило двенадцать.
– Скоро, чай, свет?
Едва лишь окончили на раскате выбивать времясчисленье, как за стенами кремля от Волги забили дробно барабаны, и тут же в кремль упали три огненных примёта: один примёт закрутился на песке, два других пали на монастырские пристройки, начался пожар сараев. Раздался топот лошадей, в кремль заскакали конные стрельцы. Передний крикнул:
– Гей, сторонитесь! Где воевода?
– Вороти, служилый, к делу! Все знаю! – криком ответил воевода, спешно пробираясь к коню на монастырском двору.
Раньше, чем поворотить из кремля, стрелец еще крикнул:
– Разин таранами ломит Вознесенские ворота-а! Капитана Видероса убили свои же, чуй, воевода-а!
Стрельцы уходили из кремля, горожане, женщины с детьми бежали в кремль. Светало. В соборной церкви заунывно благовестили. В ответ благовесту на стене где-то высоко воззвал зычный голос Чикмаза:
– Гей, браты-ы! Бей в башнях на-а-бат!
– Батько ид-е-ет!..
– Иде-е-т!..
В дальнем конце города в угловой башне завыл набат, вслед набату выстрелили пять раз подряд из пушки – казацкий ясак на сдачу города.
Лазунка в Москве
1
Темно. Заскрипели на разные голоса запираемые решетки и ворота города. На Фроловской башне пробили вечерние часы; как всегда, сторожа у московских домов застучали ответно в чугунные доски. Стало мертво и тихо. Тишину нарушит лишь иногда конный боярин, окруженный слугами с огнями. Тогда по грязным улицам лоснятся желтые отблески. То протяпает, громко матерясь, волоча из грязи ноги, палач с фонарем и подорожной бумагой, да лихие люди, пятная сумрак, мелькнут кое-где, притаясь, выслеживая мутный блеск бердышей конной стражи проезжающих стрельцов.
В верхнюю горницу, сумрачно светившую образами в лампадах, старик слуга ввел человека, смело ступавшего желтыми сапогами, обросшего курчавой бородой и волосами, падающими до плеч. Человек без сабли, но сабля скрыта длинным казацким жупаном, за кушаком пистолеты, из-под синего жупана при движении видны красные полы.
– Воззрись, матушка боярыня! Поди, чай, не признаешь?
– Ой, спужал! И как тебе, старому, не грех, на ночь глядя, волокчись прямо ко мне на женскую половину, да еще мужика чужого за собой тянуть?
– Чужой ли? Величаешь меня косоглазым, а я, вишь, прямо ляжу.
– Уж с кем это? Дай-ко, дай!
Близорукая полная старушка в летнем шугае шелковом, в кике без очелья подошла вплотную к гостю. Гость выдвинулся вперед. Слуга встал, сняв шапку, у двери.
– Батюшка! Свет Микола-угодник, да ведь это Лазунка?
Старушка кинулась на шею волосатому человеку.
Верный слуга старый сказал:
– Ты, мать боярыня, поопасись!
– Чего такого, Митрофаныч?
– Вишь, сказывают люди – признан гость наш давно в «нетях»[119] от государевой службы… Не один раз про то сама слыхала…
– Слышала! Немало люди с зависти на других лают.
Лазунка, обнимая старуху, спросил:
– Поздорову ли живешь, матушка?
– А всяко есть, сынок! Ты, Митрофаныч, поди – спасибо!
– Пойду, мать, и молчать буду, благо в дому у нас холопей – я да сторож Кашка!
Слуга ушел.
В другой горенке с открытой дверью разговаривали. Видны были в глубине ее у окна, – где на подоконнике горели, отсвечивая в слюдяных узорах рам, три шандала масляных, – две девушки: одна русоволосая, другая с черной длинной косой. Девицы рылись в сундуках, обитых по углам цветной жестью.
– Ты рухледь скинь лишнюю, сынок!
Лазунка кинул жупан с шапкой на лавку под окна. Под жупаном на нем красная бархатная чуга, тканная золотом, с цветами, казацкая шапка опушена соболем, с рудо-желтым верхом. Рукоять казацкой недлинной сабли без крыжа блестела алмазами. Старуха подержала шапку в руках, оглядела чугу.
– Дитятко! Да тебе хоть на смотры государевы – рухледь-то, эво! Чуга злащена, сабле и цены нет. – Взяла его за плечи и, снизу вверх глядя Лазунке в лицо, заговорила тихим голосом:
– Нынче, милой, все вызовы воинские заводит великий государь-от: дворяна, жильцы большие со всех городов идут на Москву конны, оружны, в пансырях, в бехтерцах…[120] Вишь, вор, сказывают, убоец лихой на Волге объявился, города палит, воевод бьет, гонит, зорит церкви божии. И нынь по Москве всякому ходить опас от сыскных людей, рыщут – всякой люд в Разбойной что ни день тянут… И народ худой стал! Тягло прискучило, мятется, по посадам собираются, а судят неладное: «Налогу да тягло время сошло кинуть». Имя-от, вишь, того убойца лютого с Волги не упомню…
– При чужих, матушка, ты меня сыном не зови, кличь Максимкой, будто я тебе родня дальняя… И кой словом закинет, говори: «Приехал-де свойственник, боярской сын, беспоместной, на государеву службу против Стеньки Разина».
– Стеньки! Стеньки – вот я и упомнила… Годи-ка свечу запалю, при божьем-то огоньке сумеречно… Да еще одного в ум не возьму, пошто таишься?
– Митрофаныч тебе о том слухе верно сказал…
– Ой, страшишь меня, старую? Ужли тем худым вестям веру дать? А корили злые суседи изменничьей маткой и сказывали, будто бы на Волге был с саратовским хлебом, да кои люди еще были с патриаршими монахи – их воры побили, а ты-де к ворам сшел!
– Потом, матушка, обскажу… Вот ясти дай, да та горница или – как ее – клеть на подклети цела ли?
– Как, храни бог, не цела! Куда ей деться?
– Там ко сну наладь… На Москве быть недолго… Гляну на тебя да про невесту Афимьюшку у тебя спрошу и, коль что, уеду скоро…
– Куда ты, родненький? О невесте своей говорить нече – ушла! И обидна я была на твою Фимушку: обносчикам всяким вняла, тебя так попрекать зачала, лаяла вором…
– Должно, так сошлось… Нашла, вишь, пригожее.
– Ой ты, дитятко, – пригожее… А богаче нас и родовитее… И уж истинно, как твои послуги будут у великого государя да жалованье, а то мы тощи… Сестрицу вот, поди, худо помнишь – махонька была, нынче просватали… Вот я ее созову.
– Пока что не зови, с тобой побуду.
– Ино ладно! С девкой роют приданое, – должно, не перебрали, а кончат перебор, выйдут да огонь принесут.
– Сестрице тоже сказывай, будто я чужой.
– Дивлюсь, дивлюсь… Ладно, что от скудости нашей прожиточные люди не бегут. Дарьюшку с рук снимают, не брезгуют… Отец-от жениха – гость гостиной сотни, а дворянство наше захудалое. Да, вишь, и патриарший двор нынче иной, патриарха Никона свели бояре, он кое и сам сошел… судили, расстригли да на Бело-озеро послали… Теперича другой патриарх – Иоаким святейший… Да что я держу тебя голодом? Маришка!
– Не надо звать! Управься, матушка, сама…
– А и то. Послужу на радостях сама, да, вишь, радость-то недолгая…
Старушка засуетилась, сбегала куда-то, вернулась, принесла луженую братину.
– Тут мед инбирной, хмельной.
– Добро, родная моя!
– Еще калачи есть да холодная баранина, ветчина да брага есть.
Ушла и снова вернулась с едой.
– Все-то ум мне мутит… ужли, сынок, худому поверить надо? Я мекала, ты на свадьбе в столы сядешь, поживешь, да вижу – не столовщик.
– Время мало! Уйдет девка – с Дарьюшкой погляжусь… Была-таки мала, невеста нынче – идет время! Она меня забыла, пущай не знает. Я же, родная, буду ей как брат.
– Худо, сынок! Должно, и впрямь есть за тобой неладное.
– Скажу потом…
– Кушай, кушай вволю!
– При девке тоже не забудь: зови Максимкой. Скажи, из Ярославля, по ратному зову.
– Скажу уж! Скажу…
Боярышня с дворовой девицей вышли из другой половины, принесли, поставили пылающие фитилями шандалы на стол.
– Не ладно, матушка! Гляди, будет охул на меня, что какой-то чужой молодой боярин ли, сын боярской в горенке ночью…
– То, доченька, родня из Ярославля, Максимом зовут, дяди Ивана сын. А пустила сюда, что иные горницы холодные да не прибраны. Мы скоро уйдем, бахвалить же ему некогда… Ты, Маришка, иди да слов не распускай: я дочь свою строго держу.
Дворовая девица поклонилась и боком, любопытно оглядывая Лазунку, вышла.
– Сядь-ко, Дарьюшка! Молодец-от – родня тебе, да и надобной: от брата Лазунки из дальних городов здравьицо привез с поклоном.
– И поминки тож! – Лазунка встал, порылся в глубоких карманах жупана казацкого, вытащил золотую цепочку с двумя перстнями золотыми в алмазах. – Вот от брата!
Боярышня поглядела на подарок, лицо вспыхнуло:
– Ох, и хороши же! Я, матушка, велю попу Ивану то в мою приданую роспись приписать.
– А куда еще? Не мне краситься ими.
– Уж и роспись есть?
– Есть, родной! Исписал ту роспись поп Иван Панкратов арбацкой Николо-Песковской церкви… Хошь глянуть?
– Можно, мать-боярыня!
– Я, матушка, дам: роспись тут же в сундуке.
Боярышня бойко кинулась в горницу, в сумраке нашарила сундук и со звоном замка отперла, рылась. Мать сказала:
– Гораздо мед хмельной! Пей мене, – и, тихо оглядываясь, прибавила: – Сынок!
– Ништо, родная. С этого не огрузит.
– Обык на Волге-то? Ране не пил так. Ну, бог с тобой, кушай в меру…
Боярышня с тем же звоном замка заперла сундук, принесла к столу желтую полоску бумаги.
– Чти-ко, гостюшко, вслух.
Лазунка читал:
– «За дочерью вдовы дворянского сына Башкова, девицею Дарьей Ивановной Башковой, приданого:
Шуба отласная, мех лисий, лапчат, круживо серебряное, пугвицы серебряны.
Шуба тафтяная двоелишна, мех белей, пугвицы серебряны.
Шуба киндяшная зеленая, мех заячей хребтовой, пугвицы серебряны.
Охабенек камчатой, рудо-желтой, холодной, пугвицы серебряны.
Охабенек китайчатой, лазоревой, холодной.
Шапка, вершок шитой с переперы серебряны позолочены.
Шапка польская, бархатная, по швам круживо серебряно.
Треух объяринной на соболях.
Цепочка серебряна вызолочена со кресты.
Десить перстней.
Постеля с изголовьем и одеялом.
Одеяло заячиное, хребтовое, покрыто выбойкою со цветы.
К ларцу девка Маришка со всеми животы, и если будет мужня, и дети ее на всю жизнь невесте в приданое ж».
– Тут не все! Есть еще образа.
Лазунка подпил, живя на воле, свыкся с иной жизнью и потому сказал:
– Все ладно, мать-боярыня, да пошто живой человек – девка – на всю жизнь в приданое, против того, как шуба и шапка?
Боярышня сердито двинула скамьей. Глаза заблестели, брови наморщились.
– Я Маришку не спущу! Маришку мне надо, да так и молыть ныне не велят.
– Наездился он, вишь, по чужим городам – там так не водится, должно… С нами поживет, обыкнет, – сказала мать.
– Вишь, от брата Лазунки… Про Лазунку нашего – худо его помню – говорить не можно, не то что…
– Ну, пошто так, доченька?
– Так вот… Не сказала тебе, матушка: гостила я, помнишь, у сестер жениха?
– То где забыть!
– Так у их за стеной в гостях дьяк был и про меня пытал.
– Ой?
– «Есть-де слухи, что Лазунка, зовомой «Жидовином», сын боярской, что на Волге и еще какой реке, не упомню, сшел к ворам, да нынче у Разина в есаулах живет! Так уж не его ли сестра замуж за вашего сына дается?»
– Ой ты, Дарьюшка!
– Чуй, матушка, еще: «Нет», говорят жених, потом и отец жениха. А сами перевели говорю на иное… Только дьяк, чую, все не отстает: «Ежели, говорит, то его родня, так сыскать про нее надо. Великого государя они супостаты!» А те, мои новые родные, сказывают ему: «Нет, дьяче, – это не те люди!» Потом углядела в окно – его пьяного повезли домой… Я, матушка, боялась тебе довести сразу – осердишься, пущать не будешь иной раз. А вот гостюшко затеял беседу, то уж к слову… Ты не осердись, родненька! У нас на Москве теперь пошло худое… Маришка вон по торгам ходит, сказывала, что народ всякой черной молыт: «Ватамана Стеньку Разина на Москву ждем, пущай-де бояр супостатов выведет да дьяков с подьячими, тягло и крепость с людей снимет!» А за теи речи людишек бьют да казнят.
Лазунка сказал:
– Прикажи, мать-боярыня, опочив наладить – сон долит.
– Чую… Сама налажу – не чужой. Поди-ка, Дарьюшка, к себе в горницу!
Боярышня поцеловала мать, низко поклонилась гостю, ушла. Лазунка проводил ее взглядом до двери, подумал:
«Красавица сестра! Не впусте жених заступу имеет: не даст в обиду с матерью. У купчины-отца денег много: от худых слухов да жадных дьяков откупится».
– Чего много думать? Скажи-ка, сынок, про дело лихое, какое оно есть за тобой?
– Завтра, матушка, нынь дрема долит.
– И то… Времени будет говорить, вздохни от дороги – постелю.
– А допрежь скажу тебе: не те воры, что бунтуют, – те пущие воры, кои у народа волю украли!
– И где, Лазунка, таким речам обучился? Какая, сынок, народу воля? Мочно ли, чтоб черной народ тяглой боярской докуки не знал и тягла государева не тянул?
– Бояре ведут народ, как скотину, быть так не может впредь!
– Вот что заговорили! А святейший патриарх? Он благословляет править народом. Перед Господом Богом в том стоит… Царь-государь всея Русии заботу имет по родовитым людям, чтоб жили не скудно, на то и народ черной! Что черной народ знает? Едино лишь бунтовать.
– Народ, матушка, бунтует не впусте: волю свою попранную ищет! И ежели атаман на Москву придет, тогда не быть боярским да царевым порядкам…
– Ох, молчи ты! За такие скаредные речи тебя уловят, и мне замест почета пира дочерней свадьбы сидеть сиделицей в тюрьме, а то худче – на дыбе висеть.
– Наладь постелю, матушка! Злю я тебя, и нам не сговориться…
– Так-то лучше! Упился нынь, с того и говоришь путаное, бунтовское.
В горнице, где мать постлала постелю Лазунке, он долго и любовно разглядывал заржавленный бехтерец отца с мечом, таким же, в изорванных ножнах, висевших на стене. В углу у коника[121] на лавке нашел пару турецких пистолетов со сбитыми кремнями.
«Кремни ввинтить… возьму с собой, – подумал он, ложась, и решил: – С невестой кончено… Мать стара, несговорна, сестра к моему имени страшна за свою жизнь будущую, а мне одно – завтре, лишь отворят решетки, идти, чтоб сыщиков не волочить к их дому…»
Чуть свет боярский сын оделся, готов был уходить.
Вошла мать.
– Проспался? Иное заговоришь, дитятко. И напугал ты меня, похваляя бунтовщиков вчера!
– Прости, матушка! Иду Москву оглядеть… Давно, вишь, не был, все по-иному теперь… застроено.
– Да ты чего прощаешься? Чай, придешь? Опасись, сынок, ежели в чем худом, не срами, не пужай нас с дочкой: сам знаешь, ей только жить, красоваться.
– Прости-ко, матушка! – Есаул обнял старуху. – Тешься тем, что есть, и радуйся! Не горюй о потеряхе…
– Ужли тебя потеряла? Ой, сынок! Сердце, вишь, матерне горюет, слезу точит… И не дал ты мне порадоваться на себя… Ну, бог с тобой!
В воротах старый слуга встретил Лазунку.
– Прости, Митрофаныч! – Лазунка обнял старика, пахнущего луком, а с головы – лампадным маслом.
– Бог простит, боярин!.. Лихом не помяни… я ж… – Старик заплакал.
Лазунка было пошел, старик догнал его, остановил, зашептал торопливо:
– Матери-то не кажись… За нас идешь, а холопям жить горько… Так ты, боярин, ежели грех какой… я дыбы не боюсь!.. Приходи – спрячу, не выдам.
– Спасибо, старой!
2
Пробравшись в Стрелецкую слободу, Лазунка нашел пожарище, не узнал места и нигде не находил схожего с тем, которое искал.
– Прошло много годов, вишь, застроилось!
Он упрямо вернулся обратно, глядел под ноги – едва видны были вросшие в землю обгоревшие бревна. Выросли на пожарище деревья в промежутках больших кирпичных амбаров с дверьми, запертыми висячими тяжелыми замками. Лазунка шагнул дальше. За амбарами кусты да остаток тына в бурьяне.
– Тут, должно?
Он прошел тын, вросший в землю, пролез толщу бурьяна, вгляделся и увидал шагах в тридцати покрытую блеклой травой крышу. Подымался туман, крышу стало худо видно – он подошел вплотную: крыша длинная, на заплесневелых столбах, меж столбами поперечные бревна поросли дерном.
– Теперь бы вход в этот погреб…
Обошел кругом и входа не находил: все закрывал бурьян, в кусты бурьяна вели путаные многие тропы. Моросило мелким, чуть заметным дождем, в кустах бурьяна и кругом крыши вросшего в землю дома стоял густой туман – он все больше густел. С какой стороны пришел – Лазунка не знал, амбаров не было видно. Есаул остановился в раздумье, в первый раз закурил трубку. Дома, чтоб не обидеть мать, не курил. Перед ним шагах в двадцати что-то хрустнуло, из тумана все явственнее двигался к нему человек. Лазунка, сжав зубами чубук трубки, ощупал пистолет.
«Знать не будет, что здесь я, – ежели сыщик!»
Вглядываясь, заметил: человек был молодой, шел на него уверенной походкой. Не доходя Лазунки локтей семи, остановился; был в поярковой шляпе с меховым отворотом спереди, в темной однорядке малинового сукна; кафтан запоясан под однорядкой розовым кушаком с кистями.
– Эй, станишник, тебе здесь чего?
Лазунка, удивленный, молчал. Юноша, двинувший со лба на затылок шляпу, ему казался Разиным, помолодевшим на двадцать лет: черные вьются волосы, сдвинуты брови, и руки, привычно Разину, растопырив однорядку, уперлись в бока.
– Ты не векоуша, я чай? Чего здесь ходишь?
– Ищу вот пути в дом.
– Пошто тебе туда ход?
– Сказывали мне, детина: здесь живет жонка. Ириньицей звать.
– Она зачем надобна?
– Я, вишь, дальной человек, не московской – поклон ей привез с поминками, а от кого, потом скажу!
Юноша подошел близко; он давно наглядел пистолеты за кушаком Лазунки и сквозь жупан приметил изгиб сабли.
– Ин ладно! Но ежели ты за лихим делом – пасись!
– Ты кто ж такой?
– Сын ей буду.
– Добро! – Пролезая в кусты бурьяна за юношей, Лазунка думал: «Должно, что Разина сын? Он же про то не обмолвился… Схож много!»
В подвале, куда сошли они, в обширных сенях на укладке горела сальная свеча, и только от ее огня между высокими сундуками можно было заметить низенькую дверь.
– Матка моя недужит… стонет, иножды плачет, а пошто – неведомо. – Прибавил: – Гнись ниже, не юкнись!
Под ногами боярский сын почувствовал ступени, обитые мягким, пахнуло жилым воздухом, зажелтели огни. Юноша ввел его в высокую горницу с печью в углу и лежанкой. В правом углу, переднем, у многих образов горели лампадки, а на столе старинном, потемневшем, из дуба деланном, в серебряном трехсвешнике зажжены и оплыли две свечи. За столом на высоких подушках в цветных наволочках лежала женская голова с растрепанными русыми с клочками седины волосами. В ворохе сбитых волос покоилось исхудалое желтое лицо, глаза закрыты, тело, едва заметное под тонким шелковым одеялом, казалось мертвым: изогнутое у шеи, простерлось прямо и плоско.





