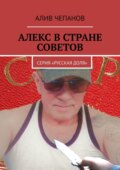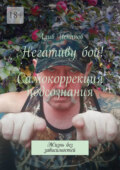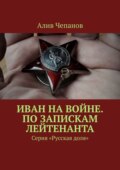Алив Чепанов
Моя правда! Серия «Русская доля»
4. Реформы
Даже в начале 20-го века немногие и весьма неуверенно стали соглашаться с тем, что земля круглая и представляет собой огромный шар. Дальше этого представления о строении мира у большинства граждан дело не продвигалось. В этом невежестве всё-таки была своя логика. На чем мог покоиться такой большой шар и еще к тому же вращаться? Какой должна быть у него ось, втулки и на что должна опираться такая ось? Ведь не на воздух же? Вот и Михаил Иванович никогда ничего на веру не принимал. Он если не мог себе представить что-нибудь, например как электричество бежит по проводам, то и не принимал это просто так на веру, как бы и кто бы ему не объяснял.
– Как это могут какие-то электроны бежать да ещё внутри проводов? Где же там бегать-то? – смеялся Михаил Иванович, когда его сын Виктор пытался ему объяснить принцип работы телеграфной связи, с которой он столкнулся подрабатывая на железнодорожной станции Клекотки прошлой зимой.
– Понимаешь, отец, каждая железнодорожная станция соединяется проводами. В конце каждого провода приемо-передающее устройство, а по проводам бежит электрический ток, понятно?! – горячился Виктор.
– Провода – понятно, а вот как по ним твой ток бежит, если я его не вижу? – допытывался Михаил Иванович. – Ты сам-то, Витёк, его видел, ток-то этот, а?
– Нет, не видел, – соглашался Виктор, оставляя надежду что-либо втолковать упрямому папаше.
– А коли и ты и я не видели этого току, то и нет его вовсе, – отрезал Михаил Иванович.
– Хорошо, батя, а от чего же тогда телеграфный аппарат стучит, а как же тогда фонари в цеху у Сашке на Путиловском зажигаются без всякого керосину? – настаивал Виктор, который недавно ездил к брату Александру в Санкт-Петербург, возил ему гостинцы и побывал у него в механосборочном цеху. Так же, батяня, и с телеграфом, мне сам телеграфист объяснял, когда мы с Митяем на станции подрабатывали прошлой зимой, так я и тебе передаю. Энергия электрического тока преобразуется в механическую, аппарат стучит и люди получают моментальное сообщение-письмо за сто верст!
– За сто верст? Моментальное письмо? Ищь-ты! – закачал головой Михаил Иванович.
При углубленном размышлении на эти темы, у старшего Животова начинало стучать в висках, появлялась головная боль, сосало под ложечкой и рука (душа) тянулась к бутылке. Мысль переключалась от земного необъятного шара опутанного проводами по которым бежит какой-то невидимый ток, к близкой обычной хорошо известной и полностью исследованной «Смирновской». Большинство верующих наблюдая такие чудеса как электрические фонари и телеграф своими глазами, после этого почесывали затылки и также тянулись в кабак. Чего-то не хватало в этих знаниях, что-то не укладывалось в практических умах простого народа.
Не меньший сумбур вызвала и так называемая Столыпинская реформа 1906-го года. Расширялись имущественные права крестьян – отменялись: порядок семейных разделов по решению общины, подушная подать, круговая порука, принудительная передача и направление неплательщиков на заработки. Столыпинским указом «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающегося крестьянского землевладения и землепользования» от 9-го ноября 1906-го года провозглашался свободный порядок выхода из общины и закреплялись наделы в собственность в любое время. Кроме того долгосрочной целью реформа намечала интеграцию крестьян в рыночную экономику. Ещё раньше 27-го августа был принят указ о продаже крестьянам государственных земель. Все законодательные акты в целом предоставляли крестьянам право на закрепление в собственность надельных земель (приватизацию). Если кому-то из крестьян-собственников, выделившихся из общины, не хватало приватизированной земли, он мог теперь на законных основаниях прикупить ещё и государственной. При чём все законы были инициированы и представлены на утверждение государя самим председателем Совета министров Российской империи Столыпиным Петром Аркадьевичем. Царская администрация и главным образом Дума тормозили принятия любых проектов касаемо аграрных вопросов. Все предложения поданные премьером на утверждение Государственной думы, утопали в бесконечных заседаниях и обсуждениях. Столыпин очень грамотно выбрал время, когда Дума №1 была распущена, а Дума №2 ещё не созвана, в связи с чем обсуждение и согласование Государственной думой нормативных актов, принимаемых в этот период не требовалось по закону. В этот период временного бездействия Думы, Петр Аркадьевич и выпустил в свет все основные, подготовленные им законы, обосновывая эту оперативность царю продолжающимися с января 1905-го года аграрными волнениями крестьян по всей стране. От народных возмущений царь ещё ни как не мог отойти и поэтому подписал всё, что ему подавал премьер, в том числе и Закон «О военно-полевых судах». Военно-полевые суды в составе военных офицеров теперь имели право судить всех, включая гражданских лиц за любые тяжкие преступления. Приговор выносили предельно быстро в течении суток и он приводился в исполнение, главным образом это была смертная казнь. Казнили тоже очень быстро в течении 24 часов. Обвиняемые при рассмотрении их дел военно-полевыми судами были лишены абсолютно всех процессуальных прав. По началу приговорённых военно-полевыми судами к смерти расстреливали, но после начавшихся возмущений в войсках, расстрел заменили на повешение. После принятия закона и вступления его в действие в народе верёвочную петлю для повешения стали называть «столыпинским галстуком». За шесть лет действия закона было казнено порядка шестисот тысяч человек, при чем как настоящих революционеров, так и попавшихся под горячую руку вольнодумцев и простых уголовников.
После прочтения Столыпинских указов относительно приобретения земли и выходе из общины у простого крестьянина оставалось больше вопросов, чем было до его чтения. Причём на некоторые вопросы ему никто ответить так и не мог: ни староста общины, ни кто-нибудь из представителей местной государственной власти. Совсем недавно между помещиками и крестьянами была непреодолимая пропасть, даже думать о свободе, равенстве и братстве было запрещено, за вольнодумство сажали в тюрьмы и ссылали в Сибирь. А тут, извольте, платите деньги, получайте участок земли, работайте на нем и живите в свое удовольствие, как бары. Что это? В чем тут подвох? Никто не мог предвидеть, что может за этим последовать. Никто не мог предсказать и подсказать Михаилу Ивановичу, чтобы он не ввязывался в эту авантюру, не рисковал, а жил бы, как и прежде, обрабатывая свой кусок земли или наоборот не зевал, не щёлкал клювом, а срочно включался в реформы и не прошлёпал своей выгоды.
В соответствии с положениями указа Столыпина за хозяином оставались все участки общинной земли, находившиеся в его пользовании в течение времени, прошедшего с момента последнего передела. Причём, эти участки, отходили крестьянину в собственность. На практике же, от которой обычно законотворцы бывают очень далеки, так как очень высоко летают над землёй, всё обстояло не совсем так, как на бумаге или скорее совсем ни так.
Второй, потрясшей Михаила Ивановича новостью, явился закон Сталыпина о введении военно-полевых судов, состоящих из военных офицеров. По сути это были трибуналы, причём даже для гражданских лиц, уличённых в преступлениях против власти и даже тяжких уголовных преступлениях. Выслушав все новости, прочтённые ему сыном Андреем из уже прошлогодних газет, переданных с приезжими односельчанами из города, Михаил Иванович так отреагировал:
– Что ж это теперь делается, люди добрые! За всё расстрел или может быть виселица? По энтому закону полагается смертная казнь, хоть душегубу, хоть разбойнику, а хоть просто человеку недовольному тем, что его нагло дурят или он скажем прочитал чего запрещенного, или просто сказал в сердцах про власть чего-нибудь не то? Это что же у нас теперь опричнина что ли?! Да и опричники то с боярами в основном расправлялись, а тут похоже всё на простой народ направлено, на нас?
– А как ты, сосед, хотел, – подключился, до этого молча сидевший на самом углу стола дымя самокруткой, сосед Александр Петрович Грачёв – давний дружок Михаила Ивановича, – власти народу 1905-й год и все беспорядки, что за этим последовали, вовек не простят. Упустили вожжи царские чиновники тады, так тепереча решили наверстать – всем тугой аркан на шею накинут, «столыпинским галстуком» в народе кличут.
– Это что же это – наряд что ли такой новый или чё? – удивился Михаил Иванович.
– Да такой уж «наряд» придумал наш главный министр «вешатель». После такого «наряда» сразу в гроб кладут. Трибунал – суд такой из одних охфицеров, я их по службе помню ещо. Теперь – хоть военному, хоть гражданскому – всем военный суд. При чём судить топерь долго не будут. Прикинут хвост к носу, в «репе» почешут маненько, да и в 24-ре часа приговор вынесут – в расход нашего брата. Одно слово, охфицерьё, от них пощады не жди. Я уже на них в Японскую нагляделся, никакой жалости и сочувствия к солдату у их нет. А кто такой солдат – такой же крестьянин, тот же народ. И ни адвоката, ни суда присяжных теперь нашему брату не будет. Раньше так в военное-то время и то не с каждым солдатом поступали, а теперь, считай каждый приговор такого суда – это или расстрел или петля. И уже вовсю царские палачи «работают», рассказывают мужики, что с городу, ни одну сотню за полгода простых гражданских людей уже «рассчитали на небеса».
Александр Петрович Грачёв был на пять лет моложе Михаила Ивановича. Он был призван в армию в Японскую. На фронте в этот же год получил серьезное ранение в правую руку и в конце 1904-го года был уволен из армии по инвалидности на небольшой пенсион. Выглядел он плоховато, как-то совсем по-стариковски, был болезненно худ, сильно кашлял и перед переменой погоды обычно тихо стонал держась за правое пробитое японской пулей плечо, может быть от боли, а может быть от жалости к своей немощной руке. Грачёв частенько говаривал, занимаясь каким-нибудь плотницким делом: «Хорошо что я левша, а так бы совсем туго было бы, пришлось бы переучиваться, что бы всё делать левой».
– Вот пишут ещо, что всё правительство заседает, да обсуждает. Потом снова заседает и так может ни один день говорильней заниматься. А я не пойму, кодышь они работают-то все? Вот если я полдня заседать где буду, то что у меня с хозяйством станется? Кто же коней за меня напоит, поросятам даст, за курами кто приглядит, дрова кто нарубит, да ещё что. Или, могёт быть, кто за них в это время работает, а потом меняются? А, Андрей? – глянул на сына Михаил Иванович.
В ответ семнадцатилетний Андрей только пожал плечами, отложил газеты в сторону и пошёл во двор, вспомнив как раз про дрова:
– Пойду дров подброшу, а то и мы чего-то зазаседались, как депутаты прямо.
Стояла зима, работы по хозяйству ещё было не много, поэтому мужики ходили друг к другу в гости, делились новостями, читали письма с фронта, газеты и всё что попадалось под руку. В то время других средств информации и не было. Потом все вместе обсуждали прочитанное тут же, для общего понимания. Обсуждение прочитанного вносило какую-никакую ясность в мудрёный газетный текст. Последнее время в привычку вошло собираться в просторной гридне в хате Михаила Ивановича.
– Отстал ты, кум Михаил, от жизни, – вступил в разговор староста писаревской общины Гнат Васильевич Семёнов, живший через три двора от хозяйства Животовых в верхней слободе. Он был сверстником Михаила Ивановича, частенько бывал у него в доме и даже бывало принимал тут крестьян по общественным делам. Селяне знали где прежде всего искать старосту и шли вначале прямо в дом Животовых. Михаила Ивановича это не утруждало, а даже наоборот, ему нравилось быть в курсе всех деревенских событий. Гнат слыл среди мужиков довольно знающим своё дело, сильным хозяином, грамотным и весьма разностороннем человеком. Староста был справедлив, но и строг к пьяницам и нарушителям общинных правил. Да и здоровьем его бог не обидел, широк был плечах и высок ростом. В любую избу входил согнувшись почти вполовину своего роста. Кулачища имел такие, что казалось мог кулаком без колуна дрова колоть. Да и в кулачном бою он всегда был на высоте, валил чужих с ног с одного удара. Так что мало кто из общины или с соседних деревень с ним решался спорить. Одним только видом и взглядом Гнат мог убедить любого спорщика.
– А сейчас так работают, бывал я тут на земском заседании, – продолжал Гнат, – чиновники государственные и депутаты думские, да и наши местные моду у них переняли, тоже заседают чуть ли ни каждый день. Пришел из дому, выспался предварительно конечно хорошенько, затем уселся вместе с такими же, как он бездельниками, в уютное мягкое такое кресло, как на трон, в большущем каком-нибудь доме иль во дворце, и давай «работать». Говорит один, например: «Стрижено всё вокруг!» А ему в ответ другой такой же «работник», на таком же кресле: «Да нет, брито всё и точка!» Вот и заспорили они, вроде как работают, и орут всё громче, наверное чтобы не заснул никто на заседании. А народу там, желающих за государственное жалование дурака-то повалять, в «думах» энтих и в собраниях разных, сейчас видимо-невидимо, больше чем у нас в деревне, когда на сенокос выходят.
– Вот и их всех «думцов» энтих бы в поле выгнать на покос, какая бы польза большая была для общества! – предложил Михаил Иванович. – А то что это за работа, да и ни работа это вовсе, а беспутство и словоблудство какое-то. А получают из казны небось как мы за год от трудов своих не получаем?
– Больше бери, Миш, раз в двадцать, в тридцать больше нашего из казны получают за заседания, да за совещания свои, – уверенно добавил Гнат.
– А что скажешь кум Гнат, по поводу закона о выходе из общины и выделении своей доли из общей? Вроде всё для нашей крестьянской выгоды придумано, а как это на практике будет, не могу себе представить? – обратился к старосте Михаил Иванович. – Ты поопытней нас, бываешь в разных конторах и видел, и знаешь про законы новые уж побольше нашего. Как по-твоему полезна эта реформа для мужика али нет?
– Насчёт указа о выделении общинных земель, я тут с мужиками нашими и так и эдак покумекал когда узнал, и так скажу вам, мужики. Если по указанному порядку действовать, то вначале ты должен поклониться старосте и не с пустыми руками, само собой. Так?
– Так. Как и раньше, по любым вопросам к старосте, – согласился Михаил Иванович и вспомнил сколько с него содрал сам староста Гнат Семёнов за свою же считай землю после возвращения семьи Животовых из Сибири.
– Теперь, – продолжал мысль Гнат, – после того, как ублажишь старосту, должен ублажить большинство деревенских, так как нужно большинство голосов. Не дороже ли выйдет, чем просто землю купить у государства и хутор себе на ней построить по первому Столыпинскому указу?
– Цены надо знать, по каким государство торговать будет, – ответил по-деловому Михаил Иванович, – прикинуть надоть хвост к носу, что дешевле будет.
– Всё так, но едим дальше по закону. Если в течение месяца община не утвердит решение старосты или вообще, например, ничего не ответит, время протянет просто. Тогда будет тебе кум отворот-поворот с землёй по закону и уже навсегда. Всё придумано не для нас, то есть кажется по первости, что для нас, а на самом деле, всё задумано, чтобы мы больше земли брали, налогов государству больше платили, больше пахали, а продукцию купцам дешевле продавали. Им же, – Гнат показал большим пальцем наверх, – вообще работать теперича незачем будет, только заседать будут в теплых креслах да чай пить или чаво ешо покрепче. Вот такая у нас социальная справедливость получается. А если ты или я, к примеру несогласный с энтим, то нам вон, как в газетах каждый день пишут и Санёк рассказывает, военно-полевой суд без адвоката и «столыпинский галстук» к наряду. Не для русского мужика всё это. Так Санёк?
– Одна цель тут у властей, мужики, разрушить общину вековую деревенскую. Поссорить всех односельчан, чтобы сообща больше не жили и не бунтовали против бар и помещиков. Чтобы мужики с одной деревне только и думали, как бы друг у друга урвать. Чтобы одни сельчане богатели, а другие беднели и шли бы к другим в кабалу. Перессорить нас власть решила и разорить общины все деревенские. А потом по одиночке нас ещё легче будет сломать. Беда нам крестьянам от этого указа идёт. Развал нашего общества и всего нашего уклада жизни! – подвел черту Грачёв.
– Не будем стало быть выделяться, будем как и раньше сообща жить и со всеми бедами сообща бороться, так и порешили! – поставил точку в разговоре Михаил Иванович.
Но ещё долго спорили селяне и только далеко за полночь мужики разошлись по домам. Михаил Иванович, оставшись один, глубоко погрузился в свои вечные думы и добавившиеся сегодня к ним ещё и новые проблемы. Тут было о чём подумать Михаилу Ивановичу. Он давно собирался прикупить землю под хутор где-нибудь неподалёку и уже готов был это сделать, но произошедший нынче вечером разговор заставил его снова задуматься и ещё раз всё хорошенько взвесить.
В окно заглянула полная луна, как когда-то давно, много-много лет назад, там в ночном. Тогда она манила юного Михаила в Черёмушки, туда, где он встретил свою судьбу – свою Дусю. Теперь же луна вторглась своим загадочным светом в его дом, она никуда не звала, но что-то же она ему хотела сказать? Михаилу Ивановичу нужно было только прочитать это послание и тогда он сделает правильный шаг.
5. Сенокос
В лето 1907-го года на заливных общественных лугах выросла особенно густая, сочная и плотная трава, усеянная разнообразными ароматными цветами. Погода удалась на редкость теплая. Предстоял сенокос и старики традиционно заблаговременно стали готовиться: поправлять, отбивать и точить косы, а после того как садилось солнце, собирались по два-три человека и с особым удовольствием уточняли время, когда следовало бы начинать сенокос. Попутно решали, кто конкретно и от какого двора выйдет на сенокос, и как-то так, между прочим, демократично прощупывали кому можно доверить первую косьбу.
Выделенная помещиком-графом ещё в прошлом веке, земля для крестьянской общины Селезневки, делилась на пахотную и луговую. В свою очередь пахотная земля делилась на три поля в соответствии с трехпольной системой обработки. После яровых культур высаживались: овес, просо, картофель, на следующий год пашня засеивалась озимой, преимущественно рожью, а уже на третий год земля ничем не засеивалась вообще. Земле предоставлялся отдых. Для того чтобы данный порядок соблюдался, каждое поле разбивалось на делянки, а делянки закреплялись за дворами. Кто и как ухаживал за землей, было хорошо видно по прорастанию, созреванию и урожаю. По пословице, что посеешь, то и пожнешь. К непахотным угодьям относились только заливные луга. Они являлись общественным владением, их было невозможно и не разумно делить по дворам. Луга были в нескольких местах, весьма отличающихся по качеству трав, трудности уборки и охраны. Делить их между дворами значило посеять семя раздора между односельчанами. В некоторых районах, раздор между односельчанами иногда мог быть причиной последующей гибели всей деревни. Враждующие стороны жгли друг другу сначала стога сена, затем сараи, убивали скот и в заключении поджигали дома, иногда вместе с их жителями.
Луга были общим владением всей общины, что объединяло и укрепляло её. Коллектив сообща охранял луга не только от соседей, но и от своих нерадивых односельчан. По сенокосным угодьям в период роста травы не разрешалось ходить не только взрослым, но и даже детям. Казалось никого вокруг нет, не видать ни души, но стоит только ребятишкам свернуть с тропинки и сорвать на лугу цветок или ягодку, как вечером их ждало строгое взыскание от деда, отца или матери. Трава охранялась от потравы и различных повреждений так, что управляющий графа с целым взводом наемных и вооруженных сторожей и сворой собак не смог бы ее охранить. Поэтому на общественных лугах вырастали чудесные, сказочные, доселе невиданные травы. Луг дурманил и опьянял широко раскинувшимся ароматным букетом всевозможных цветов. То там, то здесь кружили, взлетали и вновь спускались изящные, пестрокрылые бабочки, проносились как пули пчёлы, свистели суслики и висели над лугом жаворонки. Находясь в этом райском месте, люди забывали зло, не помнили обид, любили весь мир и радовались жизни. Жизнь казалось вечной и безоблачной, как окружающая божественная природа.
На косьбу и уборку сена выходили всем обществом не как на трудовую повинность, а как на большой долгожданный праздник.
Сено косили в середине лета, в период созревания трав, с учётом погодных условий. В это время луга обычно были покрыты совсем ещё не помятой пышной травой, раскрашенной разноцветными цветами и ягодами. Воздух, пропитанный разнообразными ароматами, дурманил головы не только парням и девчонкам, но и старикам. Особенно усиливался запах трав после их среза и укладки в грядах и копнах. Скошенную траву наскоро просушивали, насколько позволяла погода, и зачастую в тот же день копнили и распределяли по жребию. Это было самое демократичное и самое справедливое распределение результатов совместного труда, какого не было больше нигде. Ни от каждого по способностям – каждому по труду, ни от каждого по способностям – каждому по потребностям, а от каждого по способностям – всем поровну. Никакой коммунизм и социализм не сравнится с этим реально справедливым распределением плодов общественного труда. После жеребьевки каждая копна приобретала своего хозяина, что можно было заметить по дальнейшему особому к ней вниманию хозяина. Копны в тот же день обычно перевозились к дому, досушивались и убирались на сеновал. При таком способе, никакие погодные условия не могли помешать уборке. При таком распределении не существовало и посредников между работником и плодами его труда, которые при любом строе паразитируют на простых работниках – непосредственных производителей. Именно они – труженики и являются – основой всего, основой, без которой не может существовать ни одно общество и ни одно государство.
Приближался день выхода на сенокос. Обычно сенокос превращался в праздник, это первый день сбора даров природы, как бы получение аванса за затраченный крестьянами труд. Все, даже старики, одевались в самое лучшее, опрятное и чистое, чтобы было не совестно показаться на людях. Это не был мещанский торгашеский показ мод, это была демонстрация опрятности и чистоты. Самыми изобретательными при этом были женщины молодухи и девушки на выданье. Они одевались просто, чтобы не прослыть кривляками или бездельницами, однако все же так, чтобы не остаться незамеченными мужчинами и парнями. Нужно было умело сочетать красоту тела, о чем женщины всегда помнят, с простотой одежды. Только один раз в году деревенской девушке предоставлялась возможность обнажить себя при большом скоплении народа, разумеется до определенных пределов и не нарочно, а как бы невзначай. Девушки должны были покорить мужчин не только красотой, но и трудолюбием, чтобы будущие свёкры не могли бы их забраковать. Когда старому хрычу, а к ним девчата относили всех, кому было за сорок, девушка на выданье, задрав немного выше положенного юбку как бы по работе, показывала розовые икры или случайно открывшиеся круглые белоснежные плечи, то он мог подумать, что все эти соблазнительные картинки направлены именно на него. Конечно же после такого театра, хрыч ни за что не позабудет такую девчонку и обязательно посоветует именно её в жёны своему сыну. Девушки уже слышали от старших, что ни одна свадьба начиналась на сенокосе и вели себя в этот день особенно благочинно, но всё же не забывая, где это допустимо, демонстрировать кое-какие свои достоинства.
Еще накануне сенокоса мужчины в свободное от работы время собираются произвольными группами и намечают время сенокоса, а также связанные с покосом детали и в особенности всех интересует вопрос, кто пойдет первым, кто возглавит столь торжественную церемонию. От первого косаря зависит многое: начало и окончание косьбы, время обеденного перерыва и многое другое. Малоопытный косарь может сразу же загнать молодежь, старый и дряхлый затянет сенокос, а погода в период сенокоса, как правило, всегда стоит переменчивая. Вот все эти вопросы и обсуждаются косарями заблаговременно, чтобы прийти всем обществом к одной какой-нибудь кандидатуре.
В назначенный день, к восходу солнца на условленном месте, на склоне горы, рядом с домом Михаила Ивановича, собрались нарядно, но просто одетые косари. Еще накануне сосед Сашка Горячев намекнул Михаилу Ивановичу, что ходят слухи его собираются выставить первым косарем на что тот, не доверяя слухам, промычал что-то неопределенное, но явно не был против, а наоборот был весьма польщен. После того как народ собрался в полном вооружении, группа старших обратилась с просьбой к Михаилу Ивановичу возглавить покос. После официального утверждения первого косаря, вся процессия двинулась за речку. На значительном расстоянии за мужчинами шли женщины.
Пока переходили в брод речку, Михаил Иванович сосредоточенно обдумывал свои дальнейшие действия, как полководец обдумывает план предстоящего сражения. Он хорошо помнил восточную мудрость, услышанную им в Сибири, что сражение нужно выиграть ещё до его начала, то есть у себя в голове. На первом косаре лежит большая ответственность, он должен оправдать доверие, оказанное ему обществом. Если многие останутся позади, старики осудят, не сейчас, потом, как-нибудь, к слову. Наконец мужчины вышли на бровку и расположились в один длинный ряд. Торжественный и степенный вид представляла собой, ломанная в соответствии с луговой бровкой, шеренга косарей, в основном мужчин среднего возраста вперемешку с молодыми и совсем юными парнями. Большое значение всегда имело расположение косарей, кто с кем идет рядом. Молодые и еще неопытные ребята, горячие, должны были идти вблизи старших, опытных, могущих подсказать и помочь советом, иначе можно было загнать молодежь. Одной физической силы тут было недостаточно. Одним из таких молодых и неопытных был сын Михаила Ивановича – Андрей. Тогда он шел в строю косарей в первый раз.
В то время как Михаил Иванович, будучи первым косарем, еще раз обдумывал возложенную на него почётную миссию и определял какой темп лучше взять в первом заходе, все косари выстроились в ряд и сосредоточились, как будто бы перед ними стояла не трава, а неприятельская рать. Принято было чтобы косари не растягивались, косарь от косаря далеко не отставал. Косари должны были идти ровно, чтобы никому пятки «не подрезать», а это опять-таки зависело от ведущего – первого косаря.
Когда молодой и сильный парень, срезав не одну кочку, и тем самым затупив косу, горячился и отставал, над ним начинали насмехаться девицы и молодухи:
– Что это за мужчина? От старика отстает. С ним с голоду умрешь, а не то что…
А ведь мало ли что может случиться. Чуть загляделся и зацепил косой за землю. Нет, одной силой здесь не возьмешь. Первая коса размахиваясь сохраняет ширину ряда, направление и умеренную скорость. Всё это теперь зависело от Михаила Ивановича.
Прошел благополучно полдень, солнце вдоволь натешилось над косарями и слегка прикрылось сизым облачком, трава подсохла, косить стало трудней. Наступало время отдыха, что опять зависело от первого косаря. Принесшие на сенокос обед, обычно подростки или жены, ждали под ракитами. Там же суетился трактирщик Степан Матвеев – зажиточный ушлый мужик из Западной слободы. Видать было, что хочет купить сено. Принято было продавать сено с одной делянке, самое худшее, которое неприятно бы было получить кому-либо при жеребьевке. Сено продавалось за водку, которая распивалась там же за обедом всем обществом. Обычно водку выпивали мужчины, поочередно подходя к ведерку и черпая из него чашкой или кружкой. Женщинам выпивать не возбранялось, но ни одна из них даже не могла и подумать об этом, не положено. Женщины довольствовались тем, что мужчины выпив, становились веселей и общительней.
Так вот и Андрей, младший сын Михаила Ивановича, впервые участвующий на общественном сенокосе, с непривычки хлебнул целую чашку противной на вкус водки. Парень сразу же покраснел, закашлялся и вскоре заметно повеселел. Тут он заметил отошедшую в сторону девушку Полю, которая постоянно крутилась где-то возле него, подошел к ней и на глазах всего народа сунул ей за пазуху лягушонка, так традиционно подшучивали парни над девчатами. Полина была девушка на выданье, невысокая блондинка, с тонким вздернутым носиком, слегка припудренном мелкими веснушками и с синими искрящимися глазками-пуговками. Она так звонко и искренне взвизгнула, и одновременно обожгла Андрея взглядом, от которого ему уже не было спасенья…
…Недолго думая к осени сыграли свадьбу, а на следующий год у них родился сынок, назвали его в честь деда – Ваня.
Ване не было и двух лет и мать еще продолжала кормить его грудью, когда его отца Андрея вместе с братом Виктором забрали в солдаты. Проводы отмечались очень ярко. Ваня в последствии, когда ему было уже пять лет, был уверен, что хорошо помнил проводы отца. Он всегда вмешивался в разговор старших, когда они вспоминали сцену проводов. Мать его всегда останавливала:
– Ты-то чего вмешиваешься, ведь ничего не помнишь, а только от кого-то наслушался.
– Нет, помню! – уверял Ваня. – И никто мне не рассказывал.
– Это мы сейчас проверим, – спокойно говорила мама. – Ну-ка, рассказывай, что помнишь?
И Ваня, делая загадочный вид фокусника, как-будто он напрягает память, после наигранной паузы, рассказывал:
– Я тогда лежал в чулане и как обычно смотрел как бабушка вертелась около печи. Она шуровала кочергой несгоревшую солому и вдруг, ничего не сказав, ушла от печки. Я услышал оживленный разговор деда, бабки, тебя мама с отцом и ещё каких-то незнакомых людей, доносившийся из-за перегородки. Мне захотелось увидеть всех кто разговаривает, но как я не пытался повернуть голову, увидеть так ничего и не смог. Тогда я заплакал. Мне было обидно, что про меня все забыли и со мной никто не занимается. Вскоре подошла ты, мама, приласкала и поцеловала меня. От этого я успокоился и притих, мне стало как-то легко и весело, но ты, сунув мне в рот пустышку, опять ушла. Это меня огорчило еще больше и я громко заплакал. Затем подошел папа, приласкал, развернул какую-то книжку, показал красивую картинку закрепил её передо мной и потом тоже ушёл. А я увлеченный яркой красочной картинкой загляделся и замолчал на какое-то время.