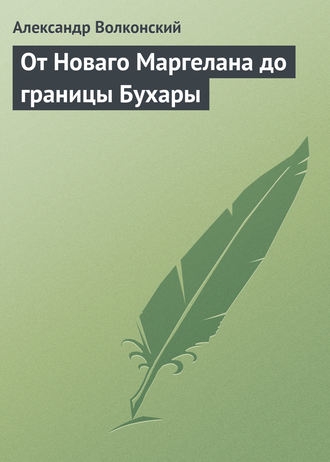
Александр Волконский
От Новаго Маргелана до границы Бухары
Мы шли по Исфайрамскому ущелью, которое считается самым красивым из ущелий, прорезающих Алайский хребет. Здесь, близь Уч-Кургана, оно представляет долину версты в 2 ширины, окаймленную по сторонам цепью гор, подымающихся впереди все выше и выше. Река Исфайран, вытекающая на водоразделе Алайского хребта в 70 верстах от его подножия, близь перевала Тенгиз-Бай, к которому мы направлялись, извивается по долине, скрытая от взора крутыми берегами промытой ею в течение веков рытвины. Кое-где в долине, у подножья гор, под тенью рощиц пирамидальных тополей виднеются группы низких саклей киргизских зимовок; кое-где одинокий красавец сада-карагач поднимает свою густую, шаровидную шапку на крепком и прямом, как гранитная колонна, стволе; его темная зелень резко выделяется, то на сером фоне голых скал, то на фоне ярко-красной глины, местами выступающей на склонах столь богатого различными горными породами Алая.
Довольные, что избавились надолго от степной пыли, мы шли веселой рысью, прислушиваясь в мерному щелканью копыт о каменистую дорогу, и были рады, что наконец началось «настоящее» путешествие. Впереди нас виднелся на дне долины укутанный зеленью кишлак, раскинувший свои домики среди хлопковых полей, изрезанных линиями глиняных заборов; густая тень от осенявшей кишлак скалы ложилась на него, расстилалась по дну долины и всползала на подножие противолежащих утесов. За ним два отрога скалы, отделяясь от боковых стен долины, преграждали ее, спускаясь красивым изгибом к её середине, и охватывали своей рамкой картину горной дали, утопавшей в розовом тумане неизвестно откуда падавших лучей закатившегося за гору солнца.
Но вот долина стала суживаться, горы местами подступили вплотную в реке; по дороге с трудом можно двоим ехать рядом, и мы вытягиваемся по ней следом один за другим. Она – то поднимается по склону скалы на несколько саженей над рекой, то спускается на дно ущелья; река с шумом бежит нам на встречу, взбивая о камни в белую пену свою прозрачную воду чудно-зеленого цвета. Глаз не может достаточно налюбоваться на красоту давно невиданной, студеной струи; как-то не верится, что этот полный кипучей жизни поток несет ту же самую воду, которая так лениво и так мутно текла раньше, когда мы глядели на нее среди степных берегов.
Мы обгоняем арбы; лошади, с утра не кормленные и с утра без отдыха, с трудом взбираются на подъемы оврагов; мальчуганы-сарты, сидящие верхом, безжалостно цукают и бьют лошадей, усиленно напирая босыми ногами на оглобли, чтобы дать арбе равновесие при подъеме. С своей стороны джигиты торопят возниц. Это постоянное понукание уставших лошадей и людей начинает надоедать, назойливо раздражает… А склоны гор все круче; крупные камни, скатившиеся с них на дорогу, все чаще заграждают путь арбам и наконец обоз останавливается: широкий ход передней арбы уперся одним концом оси в стену откоса, а другое колесо готово повиснуть над обрывом. Дальше идти невозможно, хотя до кордона Исфайриского поста остается всего 4 версты. Надо снимать вещи с арб и навьючивать их; но вьючные лошади ушли вперед, быть может отдыхают уже на посту… Опять крики, опять брань на непонятном языке, и опять один из спутников, который взял на себя неблагодарную роль начальника обоза, тщетно прилагает всевозможные усилия, чтобы водворить порядок среди непонимающих его арбакешей… Я еду вперед, чтобы вернуть свой маленький караван вьючков.
Темнеет. Горы, теряя очертания, сливаются в полумраке в однообразную, безжизненную громаду; резким, каким-то зловещим черным пятном выделяются редкия деревья на их тусклом сером фоне; только изломанная причудливым узором линия вершин вырисовывается еще отчетливо своими зубцами на не совсем стемневшем небе, и белая в сумраке лента реки окаймляет их подножье. Глаз не различает расстояния: утес скалы, казавшийся далеким, вдруг выростает вплотную передо мною; всадник, за которым я ехал следом в двух шагах, исчезает после какого-то поворота, точно поглощенный темнотой… Я еду один, пристально глядя сквозь темноту, куда мне направить лошадь. Все приобретает причудливые формы: вот близь дороги лежит человек, разметав руки, и другие столпились вокруг него; я нагибаюсь к ним с седла: это не люди, это куча придорожных камней. Сама дорога вдруг превращается в реку; осторожно подвигаешься вперед, ожидая, что с следующим шагом лошадь ступит в воду; едешь дальше – воды нет, но есть обрыв; да, это несомненно обрыв; вот тут, совсем близко, рядом со мной… проходит мгновенье, и вдруг понимаешь, что принимал за обрыв ничтожную канаву… Скоро, однако, глаз привыкает к темноте; у человека, и у лошади появляется какой-то инстинкт, и точно ощупью пробираешься в потемках, угадывая спуски в овраги или изгибы дороги в расширяющейся долине. Прошло около часу, а все еще нет ни Исфайрамского поста, ни другого человеческого жилища. Раз только донесся до меня из глубины долины собачий лай в ответ на мой оклик.
Вот где-то налево мерцает костер – должно быть это место ночевки; я хочу пробраться к нему, но меня встречает шум воды, река преграждает мне путь, и, ведя лошадь в поводу вдоль берега, я тщетно ищу моста: всюду крутой обрыв к ревущему потоку. Иногда костер на том берегу ярко вспыхивает и выделяет темные силуэты собравшихся перед ним людей. Но звать их не стоит: за ревом воды сам не услышишь своего голоса; да и не к чему звать, ибо моим спутникам незачем быть на том берегу. Я возвращаюсь на дорогу, чтобы ждать, не нагонит ли меня кто-нибудь из них; по мере удаления от берега с каждым шагом рев потока слабеет, переходит в глухой гул, и скоро вокруг воцаряется тишина, – та торжественная тишина, которая вместе с ощущением одиночества и своего ничтожества перед громадой мироздания охватывает человека, затерянного среди величия природы, раскинувшей над его головой темный свод ночного неба. Ни единого звука; только кузнечики, поющие свою стрекотливую песню, ту же, что они поют в наших родных черноземных степях, наполняют тонким звоном молчаливую ночь; звон их не нарушает покоя, а как бы сливается с ночной тишиной… И, прислушиваясь к этой тишине, утомленный бессонною ночью и долгим дневным путем, я задремал, облокотясь о холку уставшей лошади.
Прошло около получаса. Вдали послышался топот; две фигуры всадников в азиатских одеждах выплыли из мрака в нескольких шагах предо мной. «Где дорога на пост?» кричу я, но фигуры проезжают мимо безмолвно, без малейшего внимания к моему оклику. «Стой, где урус-хане, – урус солдат? где закет-хане?» – продолжаю я кричать, думая заслужить их внимание звуками сартовского языка. Но, должно быть, в моем голосе много злобного нетерпения: топот коней участился, и через минуту фигуры всадников потонули в темноте. И долго еще я ждал, покуда один из товарищей по путешествию не подъехал ко мне вместе с проводником, который скоро привел нас к весело светившемуся своими окнами домику Исфайрамского поста, или Аустана, как это место значится на карте. Здесь мы застали опередивших нас спутников уже сидящими вокруг стола, на котором кипел самовар и лежали внушительного размера хлебы, привезенные из Маргелана; остальной провизии, видимо, не суждено было нагнать нас в этот день, и, утолив, насколько было возможно, наш голод, мы расположились на полу и заснули как убитые.



