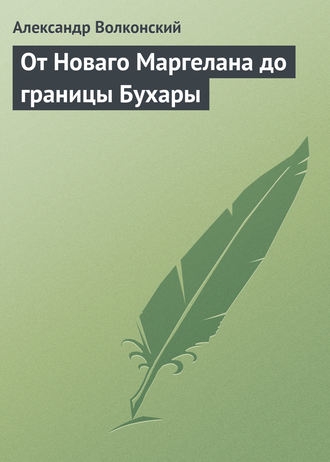
Александр Волконский
От Новаго Маргелана до границы Бухары
– Иван Петрович, вон рядом с вами лежит ножичек, – говорит кто-нибудь, желая этим уменьшительным именем скрыть свое нервное нетерпенье, и Иван Петрович любезно передает ему просимое, внутренно крайне недовольный, что его уже третий раз беспокоят и не дают справиться с изрядным ломтем баранины.
Голод утолен, и путешественники, один за другим, вынимают книжечки и начинают при свете огарка записывать события дня. Все заносится в эти книжечки: и часы привалов, и число мостов, и цвет небес, и то, что среди горных пород попадаются сиониты, и то, что у повстречавшейся нам старушки-киргизки лицо не было покрыто фатой, и высота показаний анероида. Почти все записывают; записываю и я. «Так себе, для памяти», – отвечаешь на вопрос о цели дневника, но должно быть, подобно мне, все чувствуют, что каждый втайне лелеет смутную надежду превратить когда-нибудь свои записки в печатную статью, и под сводом окутанной мраком юрты носится дух таинственной и довольно забавной конкурренции…
На дворе шум… Выхожу из тепла юрты на вечернюю свежесть и сырость, дождь льет. Вьюки пришли… развязали веревки, внесли ягтаны и чрез ½ часа в юрте настала тишина… Потом и на дворе превратился шум, смолкли голоса джигитов, и было слышно только, как лил безостановочно дождь и как привязанные в колышкам сонные лошади переступали копытами в промокшей мураве; но и этот звук доходил сквозь стенку юрты как-то особенно, и чувствовалась какая-то отрешенность от внешнего мира, точно когда в вагоне слышишь ночью сквозь стекла окон отрывочный разговор и шаги на станционной платформе…
Весь следующий день прошел в безостановочном подъеме на перевал Тенгиз-Бай. Мы вступили в другой климат; температура днем едва достигала 20° К, в вечеру спустилась до 7. Мы были в поясе арчи; это красивое дерево (яловец, Inniperus pseudosabina), с белым, крученым, точно канат, стволом, с темной хвойной зеленью, принадлежит в породе можжевеловых и ростет на высоте 1500–3000 мет. Некогда горы, окружающие долину Ферганы, были покрыты обильными лесами, питавшими теперь высохшие реки; но леса, истребляемые в течение веков кочевниками, исчезли, и в наше время арча – единственное дерево, ростущее здесь в достаточном изобилии, чтобы образовать нечто в роде рощ, правда, очень негустых. Несмотря на все меры, принимаемые нашей администрацией, гибель лесов в горах Туркестана идет с ужасающей быстротой; не избегнет, вероятно, общей участи и арча, которую углепромышленники безжалостно рубят, чтобы получить из целого дерева (весом пудов в 20) менее одного пуда угля. Из арчи сделаны также многочисленные мосты, переброшенные чрез р. Исфайрам, которая на этой высоте представляет из себя узкий горный поток все с более и более крутым падением, среди крупных каменных (и нередко мраморных) глыб.
Устройство этих мостов очень незамысловато: два выступа, сложенные из камней, иногда с промежуточными слоями древесных кольев, выдвигаются от каждого берега на встречу друг другу настолько близко, чтобы ширина пролета между ними не превышала длины переброшенного чрез него бревна; настилка аршина 1½ шириною состоит из жердей, присыпанных землей. Получается мост вполне крепкий и надежный, несмотря на его воздушный вид. Такие же мосты, но лишь в большем масштабе, встречались нам на бухарской территории чрез довольно широкия реки; там колья в береговых выступах заменены целыми бревнами, каждый верхний ряд которых выступает над нижним дальше к середине реки; длина одного бревна оказывается уже недостаточной, чтобы замкнуть пролет, и для этой цели приходится связать два, три дерева, служащие продолжением одно другого. Во всей постройке нет ни одного гвоздя, и крупные бревна связаны помощью хворостин. Очевидно, такой мост при значительной длине (до 30–40 шагов) не отличается особенной устойчивостью: когда по нем едешь шагом, он качается, как рессорный экипаж, и в длину и по линии поперечника; это двойное качание при большой высоте над уровнем реки настолько неприятно, что даже туземцы считают нужном слезать и проводить лошадей в поводу.
Мы все поднимались; на одном повороте я оглянулся: позади меня сумрачно-лиловые скалы сдвинулись глубоким амфитеатром; свинцовые облака нависли над ними тяжелой крышей; а впереди, надо мною, ничего не было видно, кроме вырисовавшегося на чистом небе края горы, по которой я взбирался. Казалось, еще несколько сажен, и я на вершине перевала, но доберешься до краю, а там неожиданно седловина и снова подъем.
Наконец, к вечеру мы достигли унылой, безжизненной поляны у подножья горы, подобной огромному кургану: путь через нее и есть перевал Тенгиз-Бай; по ту сторону начинается спуск по южному склону Алайского хребта в долину Алая. Кругом стояли снежные вершины. Здесь мы провели ночь в юртах.
Сильный холод заставил нас рано проснуться на другой день: было 6° тепла, но после недавних 40-градусных жаров нам казалось, будто это было осеннее утро; разреженный горный воздух был свеж и живительной струей вливался в грудь.
Три четверти часа подъема – и мы на вершине перевала, на высоте 11 800 фут. Дул холодный ветер. «В прошлом году, – рассказывает мне спутник, с которым мы остановились, чтобы записать показания барометра, – я был здесь двумя неделями раньше, и все уже было занесено снегом». Теперь снег лежал небольшими пятнами в складках косогора; едва заметный зарождающийся ручеек протекал вдоль дороги. Спуск очень крут, и скоро мы опять очутились среди скал; снова появилась растительность, сперва в виде жалких, стелющихся по земле экземпляров арчи, ниже – в виде кустов рябины и берез. Ручеек превращается в шумный потов (Кара-Джилги), дорога врезается все глубже в ущелье и близь впадения речки Шиман входит в Дараутскую теснину: две совершенно отвесные гранитные скалы сближаются между собою, оставляя путнику лишь узкий, в 12 шагов шириною, проход, на половину занятый течением реки. Подобные места опасны в непогоду, когда быстро поднявшиеся воды ручьев, ворвавшись в теснину, могут унести с собою целые караваны.
Еще верст 10 по хорошо разработанному карнизу, проложенному то чрез черные осыпи грифельных сланцев, то в полутьме извилистого коридора, – и к полудню мы увидели в конце теснины просвет: горы расступились, и нашим глазам представился залитый солнцем простор Алайской долины; по ту сторону её, на том берегу «красноводной» реки, за гладью зеленых лугов, прорезав белоснежные облака, уходили в небесную высь снеговые вершины Заалая.



