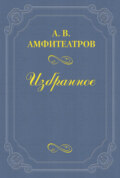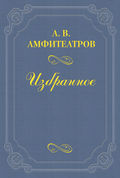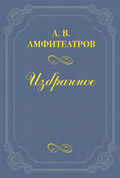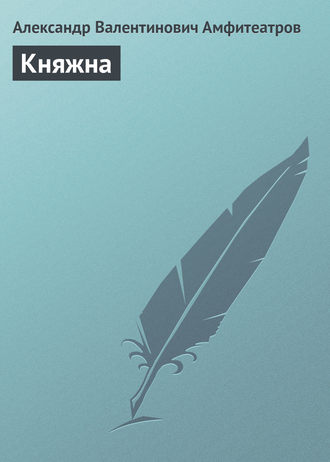
Александр Амфитеатров
Княжна
– Княгиня Матрена Даниловна! Если добрый и кроткий дух твой витает в земной сфере, если справедливый гнев твой перестал гореть против меня, окаянного, – удостой, матушка, снизойди к просьбе моей, – ответь: чем ты мне грозила? каким еще позором должен быть отравлен конец моей жизни? Скажи, блаженная душа! Спасением твоим заклинаю: скажи!
Заметил Муфтеля, поднялся. Лицо – как свинец.
– Страшно, – говорит, – мне, Богданыч. Нехорошо. Страшно.
– Бог не без милости, ваше сиятельство. Все в руке Божьей ходим.
– Не говори так. Того-то и боюсь. Страшно впасть в руки Бога живого. Хоть бы намеком знать: есть ли Он или нет?
Хлопонич подъехал. Опять начал князь благодарить его за княгиню, – ее вспоминать и хвалить, а себя проклинать:
– Подлец я выхожу перед нею… Какая ни дура, все жена была… А я ее Ледами да Церерами заставлял позировать перед художниками… на позор людям тело ее выставлял… хвастался, что хороша!.. Подлец!.. Ох, Хлопонич! Какая жизнь! Темная, скверная моя жизнь… Смолоду и до седых волос – хоть бы день чистый и светлый!.. Мать варварка… Отец… Дьявол был у меня отец! Мучитель! Издевщик! Кровопийца! В кого мне было родиться человеком? Как мне Чертушкой не быть?
До того расстонался, что даже Хлопонича в дрожь вогнал. Заметил, спрашивает:
– Что ты трясешься?
– Я, ваше сиятельство, ничего.
– Хорошо – «ничего», когда рожа алебастровая!
– Простите, ваше сиятельство, – признался Хлопонич, – я этого равнодушно не могу.
– Чего ты не можешь?
– Вы лучше на меня ножками топайте… А, когда вы так откровенно… про родителя… и себя словами обзываете… не могу! Удручен и подавлен страхом ничтожества моего.
Улыбнулся князь.
– Боишься, что потом разгневаюсь, зачем я каялся пред тобою?
Видя, что князь милостив, захихикал и Хлопонич.
– И это, ваше сиятельство, и это! А главное, что я такой – про большое слышать не могу… сердце не вмещает… робкий.
Но князь уже опять успел омрачиться.
– Маленькая душонка видит обнаженное страдание большой души – и трепещет. А впрочем… Задумался – и потом, с горечью, серьезно:
– А, впрочем, кто это решил, что у меня большая душа? Может быть, у меня пар, как у Васьки-кота, а души-то и вовсе нет? Может быть, душа-то и вообще совсем не существует! Вот штука была бы?.. Хлопонич! Говори: есть душа или нет?
Хлопонич говорит:
– Как вашему сиятельству угодно.
– Холоп!.. Муфтель! Есть душа?
Муфтель вытянулся, говорит:
– Я свою душу за ваше сиятельство положить всегда согласен.
– Солдат!
Схватился за голову, стонет:
– Господи! И слова-то в тоске обменить не с кем.
Так протянулось полтора года; князь провел их, как улитка в раковине. На Россию двинулись союзники; в Крыму шла резня. Умер царь Николай. Все умы были прикованы к Севастополю… он боролся одиннадцать месяцев и пал, победоносный в своем падении. Князю ни до чего не было дела. Гудение жизни плыло мимо него. Он был – как утопленник в омуте. Остолбенела мысль, чувства облекла спячка удава объевшегося, кошмарный сон под гнетом однообразной страшной грезы. И одно твердо сознавал князь, что спячка эта – его последний живой фазис и недолго ему перейти из кошмарного сна прямо и непосредственно в сон смертный.
– Спрут во мне, – жаловался он Муфтелю. – Знаешь, что такое спрут? Ужас океана, склизкая морская гадина, студень поганый, живою кровью питается. Схватит душу, облепит всеми щупальцами и сосет изо дня в день, из часа в час…
– Ваше сиятельство, позвольте врачей пригласить: может быть, дадут средствице какое-нибудь?
– Нет средства на спрута, Муфтель. Ни лекарства, ни огонь, ни железо не излечат: излечит одна смерть!
Весьма редко выходил он из своей меланхолии. Хлопонич забирал при нем все большую и большую силу и то и дело ездил по делам князя, как поверенный, в Москву и Петербург.
Возвращаясь, он с удивлением рассказывал Александру Юрьевичу о первых днях царствования молодого императора Александра Николаевича, новых веяниях и начинаниях, о слухах об освобождении крестьян…
– Не узнал Петербурга. Истинное слово говорю вам, ваше сиятельство, не узнал. Дух иной-с! Другие люди! Все с войны пошло-с, после замирения. Говорят-с! Шепчут-с! Сочиняют-с! Что прожектов! Местов! Жалованьев! Так и гудит! Звания и ранги перемешались. Сегодня человек в ничтожестве небо коптил, а завтра написал прожект, попал в точку и – мало-мало не министр… Сынка предводителя нашего встретил. Только что из-за границы, с теплых вод, и – в бороде-с. Причесан, как мужик, и в бороде!.. И – ничего. Никто во внимание не ставит… Что же это-с? Помилуйте! Дворянское ли дело? При покойнике на барабане бороду-то обрили бы… через полкового цирюльника!.. Все понятия смешались. Даже и стишок такой ходит – о всеобщем изумлении по случаю новых времен. «На дрожках ездят писаря, в фуражках ходят офицеры».
Князь слушал равнодушно и вяло и только на бороду предводительского сына заметил:
– Дурак без бороды – баран, с бородою – козел.
– А что, – закинул Хлопонич, – если бы вам, ваше сиятельство, душу развеселить – в Питер проехать?
– Не видали меня там! В качестве дикого ирокеза себя показывать, что ли?
– Развлеклись бы? Бозия поет, господин Темберлик…
– Ты же знаешь, что мне воспрещен въезд в столицы.
– Это, ваше сиятельство, ничего. Я справлялся: коронацией все подобные дела покрыты. Даже не надо и просьбы особой подавать, а только напишите шефу жандармов письмо, что, мол, имея надобность по делам своим посетить резиденцию, прошу повергнуть на всемилостивейшее усмотрение к стопам…
– Неужто пустят?
Хлопонич зашептал:
– Да как же нет, ваше сиятельство? За вами политического дела не числится, только личное неудовольствие покойного государя. А ныне даже этих, которые по четырнадцатому-то числу, всех велено возвратить.
– Врешь? – оживился князь.
– Ей-Богу! Титулы им назад отдают, ордена. Едут из дальних сибирских стран в ближние города… Первые люди! Встречают их по городам, словно богов каких.
Князь встал с кресел своих и – чего во всю волкоярскую жизнь его никто за ним не видал – перекрестился.
– Благословен грядый во имя Господне! – глухо произнес он.
– Вот и повидались бы, ваше сиятельство, – подхватил Хлопонич, раздувая произведенное впечатление. – Поди, в числе их не одного старого приятеля найдете…
Ничего не сказал князь, но – всю ночь после этого разговора проходил по покоям своим, важный и строгий, и за долгий срок впервые, кажется, думал не о мертвых бредах своих, но о живом, далеком, хорошем, светлом. Но когда назавтра Хлопонич возобновил свои соблазны, Александр Юрьевич только улыбнулся с грустью:
– Нет, Пафнутьевич, утро вечера мудренее: не дитя я, чтобы благовать мечтами.
– Право, повидались бы, ваше сиятельство.
– Зачем? Чтобы себя стыдиться? Я и наедине, брат, сам с собою довольно стыжусь.
– Помилуйте-с! как можно? – смутился прихлебатель. Но князь твердил:
– Общего между нами нету… Рад, что живы, кто жив… а – нету, умерло общее! Они там – в глубине сибирских руд – души свои живые сохранили, сквозь вьюги, сумрак и нищету, в оковах, свет свой пронесли… А я – свободный, богатый – душу зарыл глубже, чем в руднике. Темный демон – душа моя, и… поздно! не взлететь ей! Что уж Чертушке с декабристами? Тоже наслышаны, небось… о Чертушке-то! Они освобождали, а я заковывал… С испугом в глазах встретят… еще и руки, пожалуй, не подадут. Нет! Поздно, Хлопонич, поздно! Довольно об этом. Лучше расскажи – какие слухи, что новое правительство думает насчет мужиков? Отбирают от нас рабов наших или поканителимся еще?
Хлопонин замялся. В старину князь вестей о воле не любил. В 1841 году, когда под впечатлением крестьянских бунтов слово «воля» загуляло по всей России, не обошло оно и унженских трущоб. Волкоярские мужики при слухах о свободе стали усерднее креститься, стоя в церкви, и в сумерках собирались на задворках покалякать о слухах, перелетавших в костромскую глушь вместе с ходоками-питерщиками и ходебщиками-офенями…
Князь тогда призвал Муфтеля:
– Аракчеев! ты слышал: правительство струсило, – хамью дают свободу?
– Точно так, ваше сиятельство.
– Что ты об этом думаешь?
– Не могу знать, ваше сиятельство.
– Ты глуп. Никаких реформ сейчас не будет, не может и не должно быть: вот что ты должен думать. Нос короток!
– Слушаю, ваше сиятельство.
– Я слышать не хочу ни о каких новостях. Понял?
– Понял, ваше сиятельство.
– Я был барином и умру барином. Если же стрясется над Россией такая беда, то я не русский более. Когда я умру, воля моих детей: идти ли по моим следам или якшаться с холопишками. Говорят, между молодым дворянством теперь на это много охотников… Но пока я жив, – слушай, Муфтель. Если хоть одно слово в Волкояре будет сказано о воле, я самого тебя пошлю на конюшню, даром, что ты немец и имеешь чин!
Памятуя этот давний случай, Хлопонич имел основание предполагать, что привезенные им вести о свободе окажутся очень неприятны грозному деспоту крепостного Волкояра. Но, к его удивлению, князь выслушал совершенно спокойно и только полюбопытствовал:
– С землею?
– Угрожают, будто с землею.
– Отлично. Так и надо. Довольно нам остзейского срама!
Хлопонин, совсем не находя этого отличным, ибо в ту пору округлил свое состояньице уже в триста благоприобретенных душ, позволил себе заметить:
– А я, ваше сиятельство, сомневаюсь… Ничего не будет!.. Десятки лет слухи ходят, а все – в пустышку… Были господа и были рабы, будут рабы и будут господа… Как быть перемене законам мира сего?
Князь необычайно оживился.
– Нет, Хлопонич, будет воля, непременно будет! – твердо сказал он. – Должна быть. Пора. Великое время наступает для России. Не тоскуй о прошлом. Не знаю, что даст будущее, а прошлое и настоящее – тьма кромешная, скрежет зубовный. Ты думаешь, жизнь вокруг нас? Нет, – мерзость запустения, гнилое дупло, обросшее поганками. Я, ты, Муфтель, Олимпиадка, все кругом – поганки. И не наша в том вина: не могли мы другими быть. Из поганого дупла выросли, – поганы и мы. Срубят дуплистый дуб, не станет и поганок. К черту нас всех! к черту!.. Только черт-то захочет ли взять? Пожалуй, назад приведет: такие голубчики, что и ему не надобно… Я рад, что сын мой будет сыном свободной России. Уже не будет так, что десятки тысяч душ живут на свете только затем, чтобы кормить и баловать постылого и ненужного никому человека вроде… вроде меня!
Сконфуженный Хлопонич хотел возражать. Князь горько засмеялся и переменил разговор.
Несмотря на свои еще далеко не старые лета, – ему шел пятьдесят третий год, – Александр Юрьевич заметно опускался и разрушался. Его одолевала болезненная, вялая тучность – с одышкою, сердцебиением, приливами крови к голове. В дворне поговаривали, что князь недолговечен.
Он сел писать завещание – огромное, подробное, сложное. Для юридической разработки его вызвал Вихрова, который, с воцарением Александра Николаевича, немедленно вышел в отставку от принудительной своей службы и, побывав за границею, теперь жил вольным помещиком в довольно порядочном имении своем той же губернии, но другого уезда. Чтобы подписаться свидетелями под завещанием, нарочно приезжали в Волкояр начальник губернии – не старый, с которым всегда воевал князь Александр Юрьевич и которого тоже погасили александровкие дни, а новый молодой светский генерал, подававший руку просителям и говоривший «вы» даже канцелярским писцам, – и предводитель дворянства, все еще тот же, милостями князя Александра Юрьевича, трехлетие за трехлетием благополучествующий. Кроме них, свидетелями подписались, по желанию князя, Вихров и – в особую честь – верный Муфтель. Содержание завещания свидетели держали в строгой тайне, и даже лисьему носу Хлопонича не удалось ничего пронюхать, кроме того, что он в посмертной воле благодетеля своего не забыт. А губернатор и предводитель, возвращаясь вместе в одном дормезе, менялись впечатлениями.
– Замечательный человек! – говорил губернатор, который Радунского впервые знал.
– Чертушка-с! – говорил предводитель, который знал Радунского двадцать лет.
– Я думал встретить сумасшедшего деспота, непоколебимого крепостника, и вдруг перед нами – джентльмен и передовой человек… Удивительно!
– Чертушка-с! – повторил предводитель.
– Когда я был назначен на мой пост, меня в Петербурге даже предупреждали – иметь в виду, что тут есть господин, князь Радунский, с которым надо будет бороться и, вероятно, даже постараться – отдать его под суд за злоупотребление властью помещика. А между тем это – единственный случай в моей губернии, что крупный душевладелец идет навстречу намерениям правительства, да еще в таких широких размерах.
– Горд очень.
– Вы думаете потому?
– Привык воображать себя удельным князем – и до конца этот характер свой выдерживает.
– Д-да… вот что?
– А вы полагали – по душевной доброте? Где ему! Чертушка-с!
– Так что, по вашему мнению, это – не навстречу правительству, но скорее – вызов?
– Обязательно… Вот-де, как мы, князья Радунские, своих рабов освобождаем, – ну-ка, вы там, в Петербурге, попробуйте!..
– Гм… Я его предупреждал, – сказал озабоченный губернатор, – даже убеждал его этот пункт уничтожить, потому что он, действительно, уже лишний. Освобождение крестьян – разрешенное дело, вопрос нескольких лет подготовительной работы. Но он стал на своем и, хотя чрезвычайно вежливо, но, пожалуй, действительно, в таком роде мотивировал, как вы изволите говорить.
– Да, конечно! Знаем мы его песни-то… «Правительство само по себе, а я, князь Радунский, сам по себе. Эти мужики были моими рабами, свободу им дать должен я – и никто другой! Я! Мое! Не позволю!»
– Экий, в самом деле, Люцифер гордый!
– Чертушка-с!
Так толковали завещание князя люди верха. Вихров был другого мнения. Молодой человек тоже поставил князю на вид соображение, что, собственно говоря, освобождая крепостных своих, он ломится в открытые ворота, – воля с землей не за горами. Князь выслушал и возразил:
– А вы совершенно уверены, что у правительства достанет силы – заметьте, я говорю: не желания, но силы – осуществить это свое намерение?
Вихров затруднился ответить.
– То-то и есть! Меня вот Чертушкой зовут… Ну так я вам, милейший Павел Михайлович, скажу по опыту: Чертушек-то крепостной России скрутить недолго, потому что нас всего, может быть, два-три, зато в ней семьдесят тысяч чертенят. Покойник-то, Николай Павлович, тоже на них замахивался и комитеты собирал, да – не достало силы, и кончил тем, что сдался им в плен и говорил о них: у меня в России семьдесят тысяч даровых полицеймейстеров. Удастся реформа, – очень рад; не удастся, – мое дело сделано, и совесть моя спокойна… Так что уж, пожалуйста, разработайте пункт этот как можно подробнее и яснее, чтобы потом не могло быть ни кляуз, ни прицепок. Вы находите достаточным определенный мною душевой надел?
– Еще бы, князь! Правительственная реформа так щедро нарезать землю, конечно, будет не в состоянии. Но и – обрезали же вы своих наследников.
– Наследника! – нахмурясь, остановил князь. – Кроме князя Дмитрия Александровича, иных наследников у меня нет… Вы знаете мои надежды на Митю, Павел Михайлович. Но Мите сейчас десятый год, а я вряд ли долго проживу и не уповаю видеть его совершеннолетним. По мальчику – можно ли с уверенностью ручаться, каков будет мужчина?.. Я, говорят, лет до одиннадцати пренежный и чувствительный отрок был, – вот вам! да-с! Только с пониманием любезных родителей своих начал характером озлобляться… Могу ли я быть уверен, что сын мой, возрастая в ином дворянском веке и в новом дворянском духе, поймет меня и не возропщет на мою волю, и приведет в точное исполнение? Дворяне сейчас либеральничают, Павел Михайлович, но скоро они обидятся, – вы увидите, как они обидятся… Нет-с! Покуда кто властен исполнить свою волю, потуда он должен выполнять ее сам. А – что я у сына отнимаю много земли, так – знаете ли? Вот величают меня за глаза удельным князем и, в самом деле, в Германии немного герцогств таких, как мой Волкояр, а ведь у меня еще и в Симбирской, и в Уфимской, и в Херсонской, и подмосковные, новгородские… Пятьдесят лет жил на свете, двадцать два года владел, большей части земель своих так и не видал, а ползли, ползли великие соки их со всей России в меня одного – маленького, так что весь я ими переполнился и вот теперь – поздно – сознаю: отравился обилием их, задыхаюсь… Эх, Павел Михайлович! Не так уж много человеку земли надо. Это – святошеское вранье, будто только три аршина, – однако же, и не сотни квадратных верст.
Слухи о «княжой воле» проникли-таки в народ. Но как ни пытали крестьяне и дворовые Муфтеля, старик выдержал характер: был нем, как гроб. Только одного и добились от него:
– Удивит вас князь. Молитесь, ребята!
Осень 1856 года была особенно нехороша для князя. Завалы в печени награждали его головным болями, от которых он не кричал криком только благодаря своему упрямству и стыду показать, как ему больно. Чем больше он сдерживался, тем больше раздражался… Синий, как утопленник, сидел он тогда в своем кабинете, и Волкояр замирал в безмолвном трепете, как некогда замирала Александровская слобода в припадочные дни Ивана Грозного…
В один из таких дней казачок доложил Муфтелю, что дед Антип собрался помирать и просит его прийти в садовую баню, потому что хочет сказать ему важное слово.
«Насчет княжны собрался каяться, каторжный», – мелькнула у Муфтеля мысль. Он пошел. Старик лежал на лавке – худой, как спичка, только живот у него вздуло горою.
– Богданыч, ты? – раздался его шепот.
– Здорово, старина… Аль худо?
– Чего худо? Хорошо, а не худо. У Бога худого нет. Пора! Чужой век заживаю.
Он помолчал.
– Вот, Карла Богданыч, как помру я – деньги на колоду, на свечи – пятнадцать рублев – тут подо мною в подушке. Тебе поручаю, – потому ты немец справедливый.
– Попа звал ли? – спросил Муфтель.
– На что он мне? Ко мне намедни свои, бродяжки, заходили… им грехи сдал… А Кузьму не хочу: пусть он княжих медведей хоронит.
– Эка зла ты накопил, старик! – упрекнул Муфтель. – Вот умираешь, дохнуть тебе нечем, а ты злобишься…
– Слышь-ка, Богданыч, – не отвечая, перебил Антип, – у меня к тебе просьба остатняя и заветная…
– Приказывай: исполню…
Старик долго смотрел в одну точку, стараясь собрать свои мысли. Силы его, видимо, слабе ли.
– Там в печурке… – пролепетал он, – ларец… Ты его возьми… и, как есть, снеси ему… князю. Дескать, Антип кланяется вашему сиятельству… с того света…
– Когдаже снести-то, дедушка? сейчас или когда помрешь?
Больной не отвечал: глаза его обессмыслились, и живот тяжело ходил из стороны в сторону.
Муфтель стал рыться в печурке. Между разным рваньем и лохмотьем ему попалась старая железная сахарница без замка. Заглянув в нее, Муфтель нашел битые бусы, сломанный серебряный браслет и несколько листов бумаги, исписанной крупным лавочным почерком, как будто покойной Матрены Даниловны. Муфтель не без недоумения отнес находку князю. Александр Юрьевич – тоже с недоумением – принял листки.
Муфтель уже выходил из его кабинета, как услыхал позади себя короткий крик и падение тяжелого тела. Он оглянулся: князь лежал ничком на своем письменном столе. Его разбил паралич.
Князя перенесли в спальню. Он не владел языком и правыми рукою и ногою. Но когда Муфтель хотел взять у больного бумаги, крепко зажатые им в кулак левой руки, Александр Юрьевич бешено отмахнулся от своего верного слуги и страшно замычал. Муфтель бросился к Антипу и вбежал в баню с таким свирепым лицом, что дворовая толпа, собравшаяся глазеть, как будет помирать божий старичок, шарахнулась от управляющего, точно испуганный табун.
– Дьявол! – закричал Муфтель, встряхивая умирающего, – какого ты колдовства мне дал?..
Антип открыл глаза и оскалился, как собака. Глаза у него уже стояли… из неподвижных губ сорвался не то вздох, не то рев, живот подпрыгнул. Старик осунулся на подушке, икнул и… помер без ответа…
Не успели приехать приглашенные к князю доктора, как за первым ударом последовал другой, а к утру – предсказали медики – надо ждать третьего удара и вместе с ним смерти. Муфтель никому не доверил ходить за умирающим князем. Он всю ночь просидел у изголовья своего господина. Под утро его сморило сном, но стонущее мычание больного разбудило его. Муфтель увидал, что князь свесился с кровати и с напряжением тянется здоровою рукою к ночнику, чтобы зажечь таинственные бумаги. Еще минута, и он свалился бы с кровати. Муфтель подхватил больного и снова уложил в постель. Князь, лежа навзничь, устремил в лицо верного слуги взор, в котором Муфтель ясно прочел вопрос о смерти.
– Бог милостив, поправитесь, ваше сиятельство, – попробовал он ободрить умирающего, но по лицу князя скользнула безнадежно скорбная улыбка. Муфтель не посмел повторить своего утешения. Больной перевел взоры на ночник и доверчиво протянул управляющему руку со сжатыми в ней бумагами.
– Сжечь прикажете?
Александр Юрьевич утвердительно мигнул глазами. Муфтель поднес листки к огню, и через мгновение от них остался пепел, да и тот управляющий растер ногою. Вздох облегчения вырвался из груди князя; он вторично протянул руку Муфтелю, и когда тот нагнулся, чтобы поцеловать ее, притянул старика к себе и поцеловал его в губы: глаза у обоих были полны слезами… Муфтель не знал, какую именно услугу оказал он князю, но чувствовал, что оказал немалую; а князь благодарил его и за эту последнюю услугу, и за рабскую службу всей жизни. Затем князь забылся… Поутру началась агония.
Муфтель только что задремал было на стуле у дверей княжой спальни, как его разбудило хрипение умирающего.
– Бегите, Олимпиада, за батюшкой! – распорядился Муфтель, – да князя Дмитрия Александровича приведите. Пусть отец благословит его, умирая…
Князька разбудили. Когда он, – пухлый, десятилетний ребенок, живой портрет матери заспанный, взволнованный, в слезах, вошел в отцовскую спальню, у князя уже играл колоколец в горле. Мальчик взглянул на полумертвое тело отца, на необычайно серьезные лица Муфтеля и Олимпиады, смутился, понял, что происходит что-то недоброе и грозное, и в страхе громко захныкал. И тут-то приключилось нечто необыкновенное и никем не ожиданное. По комнате точно дьявол пролетел. Едва плач мальчика коснулся ушей князя, из груди больного вырвался такой свирепый, такой мучительный рев, что Муфтель затрясся и присел от страха, Олимпиаду отшибло в самый дальний угол спальни, а мальчик в ужасе отпрыгнул от кровати отца, без ума бросился к Олимпиаде, спрятал голову в ее юбки и завизжал на весь дом. На мгновение жизнь как будто воскресла в убитых параличом членах умирающего. Опершись на здоровую руку, он приподнялся на подушках и, уже не с синим – с черным лицом, сверкая страшным оскалом зубов, пучил на своего любимца и наследника глаза, налитые самою бешеною ненавистью. Князь шевелил губами, силясь выговорить какие-то слова, – это могли быть ругательства, проклятия, только никак не благословения, – но язык ему не повиновался… Тогда он хрипло зарычал, как раненый лев, откинулся на подушки и… «Чертушки на Унже» не стало! Он умер, как жил: ненавидя и проклиная, и унес с собой в гроб тайну своей последней ненависти и непостижимых бессловных проклятий – единственному существу, которое он до сих пор любил.
Муфтель чувствовал, что объяснения всему этому надо бы искать в бумагах, им сожженных… Но от них не осталось и пепла, и немец, когда впоследствии его спрашивали о подробностях кончины князя, по инстинктивной осторожности, долгое время даже не заикался о находке, оставленной Александру Юрьевичу дедом Антипом.
Завещание князя действительно удивило и нашумело не только на всю Россию, но даже за границей писали о нем, как о знамении времени. Князь отпустил на волю всех своих крепостных, предоставив бывшим крестьянам своим в земельный надел более половины своих владений. Щедрый надел этот – во всех местностях, где были имения князей Радунских, – до сих пор определяется множеством урочищ, носящих выразительное общее название: «Княжая Воля».
Волкояр до совершеннолетия наследника был взят в опеку, а самого наследника опекуны перевезли в Петербург и поместили в аристократический пансион. Княжна Зина завещанием лишалась наследства. Она так и не нашлась. Сказать правду: опекуны не слишком усердно ее и искали. Дворня разбрелась. Волкояр пустел, глох и опускался.