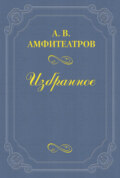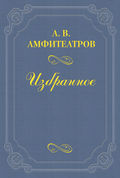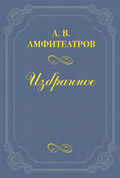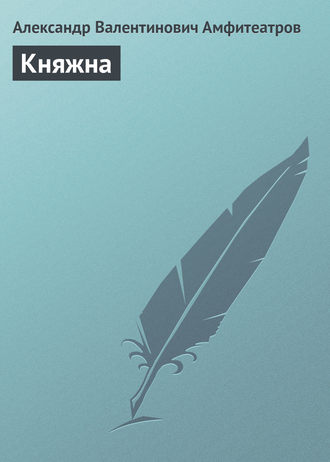
Александр Амфитеатров
Княжна
– Гм!..
Радунский пронзительно посмотрел на верного слугу; он отлично помнил, что ничего подобного не приказывал, но смелость Муфтеля ему понравилась.
– Читай дальше! – спокойно сказал он.
Муфтель кончил ведомость.
Князь взял бумагу из его рук и скрепил своею подписью.
– Смотри у меня, Муфтель! – заметил он, погрозив немцу пальцем. – Не умничать и не вольничать!
У Муфтеля душа раздвоилась и ушла в пятки. Ему живо представилось, что его уже выкупали в дегте, обваляли пухом и выбросили за ворота, как – по княжескому приказу – сам он должен был сделать лет пять тому назад с одним из «вольных» княжеских домочадцев-супротивников… Однако гроза прошла. Выговор только тем и ограничился.
– Много, матушка ваше сиятельство, грехов простится мне за эти полчаса! – говорил потом Муфтель Матрене Даниловне.
VI
Вяло и скучно жилось в садовом флигеле княгине Матрене Даниловне, хотя у нее был свой штат женской прислуги и завелись свои друзья и знакомые, подстать ей самой – из мелкопоместных дворяночек и попадей округи. Жизнь проходила – кроючись и крадучись.
– Что ты, матушка, забыла меня? – упрекала иной раз княгиня давно не бывавшую гостью, – или угощение мое не по нраву? Кажется, стараюсь – как для родной сестры, и ничем ты от меня не обижена.
Гостья откровенно извинялась:
– Княгиня, голубушка, хоть семь дней в неделю рада бы у вас гостевать, всем от вас удоволена, на всем вам благодарна. Да уж больно жутко. Собираешься к вам в Волкояр, ровно во Сибирь некую. Как подумаешь о князе, так сердце и упадет: неровен час – встретится…
– Зверь он, что ли? – с горечью возражала княгиня, – если и встретится, что он тебе сделает? Ты не к нему, а ко мне. Он мне в гостях не препятствует.
– И ничего не сделает, голубушка, да посмотрит. А у меня потом от его глаза на целую неделю трясение в суставах. Я, княгинюшка, когда к вам еду, трястись-то начинаю еще за околицей; селом еду – лихорадка бьет; а как во двор вкачусь, – так и глаза зажмуриваю: избави, Господи, от мужа кровей и Арида!
Нескольких дворяночек – поголоднее, а потому и посмелее – княгиня поселила при себе приживалками.
Князь, отдалив от себя жену, не видал ее по целым месяцам и ничуть не заботился, как она живет и что делает. Разлюбленная и разлюбившая, молодая женщина, – да еще богатырского сложения и здоровья, – прямо-таки задыхалась в своем бездельном и бесцельном одиночестве. Избыток сил душил ее; надо было найти ему выход, – и, обманутая в любви, нашла она выход печальный. Две из ее приживалок попивали втихомолку. Выучилась у них пить и княгиня. Чарочка стала необходимою принадлежностью длинных зимних вечеров, в которые тосковала она среди своего бабья, под песни работающих девок. Зашел к ней как-то Муфтель в такую пору и ахнул: княгиня едва ворочала языком… речи и мысли были нехороши, движения нескромны… Окружающие ее женщины были не лучше. Глупые песни поют, верхом друг на друге ездят. На другой день Муфтель пришел к Матрене Даниловне с выговором.
– Ваше сиятельство, что же вы это изволите делать над собою? Так нельзя-с. Доведается князь – и вам будет плохо, и мне: зачем недосмотрел? Убедительнейше прошу вас: перемените ваши поступки. Я не могу быть за вас в ответе. Если вы этих занятий не оставите, я доведу до сведения князя.
Матрена Даниловна стиснула зубы и махнула рукой.
– Доводи!
– Да как же-с? – оторопел Муфтель.
– Доводи, говорю, – бессвязно кричала княгиня, – пусть убьет, дьявол бессердечный! Один конец, по крайней мере. У! ненавижу его… Зачем он на мне женился? за что погубил? Не пара я ему, вишь ты… Сама знаю, что не пара. Ему было в ровнях высватать за себя принцессу гишпанскую, а он мелкопоместную дворянку взял. Ни то я по-французскому, ни то я по-немецкому. А теперь и грамоте-то, что знала, забывать начинаю… Не пара! Не я ль его просила, не я ль молила: отступись! не женись! деньгами ты меня наградил, найду человека, который погибнуть мне не даст, девичий стыд мой венцом покроет? Кому было вперед-то глядеть, видеть, что не пара, – мне ли, дуре, или ему, умнику? Нет, – лишь бы блажь свою потешить да характер оправдать, а – что человек живой пропадет, о том и думочки нисколько… Известно: на что я ему теперь? Красота моя свяла. Красоты нет, – муж глупую жену любить не станет. Одна, весь век одна! в тюрьме легче. Господи, да ведь мне же тридцати годов нету… должна же я иметь в жизни свое удовольствие! Ох, Карл Богданович, тяжко… Так тяжко, что… ну, будь только люди в нашей мурье, уж отсмеяла бы я ему, злодею, свою обиду!
– Что это вы говорите, ваше сиятельство!
– А то, что я греха бы не побоялась, стыд бы забыла, а уж нашла бы себе мила дружка по сердцу, чтобы он любил меня по-моему, нежил, приголубливал… Мне ласки надо, Муфтель, слова доброго… и ничего у меня нет! Словно все каменные…
И загуляла княгиня Матрена Даниловна. Стукнет с горя у себя в павильоне хересу бутылочку, а то и просто зелена вина, и пошла, очумелая, бродить по саду, – в самом развращенном виде, сама не своя, – песни визжит, точно девка деревенская. Дворня, любя ее за кроткий нрав, понимала в ней обиженную женщину и тщательно укрывала от князя, чтобы не доведался, как она пьет. Однако в скорости отступились – опасно с нею стало: уж слишком полюбила вино. Пришлось Муфтелю доложить казус этот князю.
О всех проделках Матрены Даниловны Муфтель не донес, но осторожно намекнул, что княгиня хандрит – хоть руки на себя наложить готова, и, заметив, что попал к своему грозному повелителю в добрый час, позволил себе посоветовать ему немножко приблизить к себе жену:
– Так как вся их ипохондрия – осмелюсь доложить вашему сиятельству, – по замечанию моему, проистекает исключительно оттуда, что княгиня без памяти обожают ваше сиятельство.
Князь – стареющийся прежде времени, опустившийся, изношенный развратом – был польщен этою крепкою привязанностью. Он посетил жену, – которую перед тем не видал с полгода, а когда видел, то почти не глядел на нее, – и был поражен переменою в ее наружности. Вместо белой, румяной, веселой красавицы он нашел ожирелую, обрюзглую бабу, с равнодушным неподвижным лицом, со взором тупо-покорным всегда и враждебно-испуганным в минуты волнения. Князю стало совестно. Он захотел воскресить убитую им женщину, но было уже поздно! Насильственно-пылкие ласки его, нежные слова, от которых в прежнее время Матрена Даниловна ходила бы целую неделю, как шальная, в счастливом полусне любви, – теперь пропадали бесследно. С женщиной обращались долгие годы, как с самкою, как с рабою, – она и стала самкою и рабою. Александр Юрьевич не встречал в своей княгине ни страсти – хотя прежде она была богата страстью – ни отвращения, но одну тупую рабскую покорность, мертвый, безразличный взор, неулыбающиеся губы. Пила же она тайком по-прежнему, хоть и остерегалась теперь, чтобы не попасться князю. Он, однако, догадался, но смолчал. Ему стало противно; он понял, что потерял жену навсегда. Недели полторы он выдерживал это печальное повторение медового месяца. Потом ему надоело, – и он забросил Матрену Даниловну сызнова.
Это было к концу девятого года их супружества – весною. С княгинею же, когда муж стал от нее удаляться, случился совсем неожиданный переворот. Она вдруг ожила, отказалась от вина, повеселела, помолодела, похорошела.
Теплый апрель переселил ее из душных комнат флигеля в чудный волкоярский сад. Один за другим бежали веселые вечера – с горелками и хороводами, в которых вместе со своими девушками принимала участие и Матрена Даниловна. К ней возвратились ее звучный смех, ласковое выражение глаз, добрая усмешка и розовые щеки.
Осенью Муфтель таинственно доложил князю Александру Юрьевичу, что княгиня совестится сама сказать ему, а – по всей видимости – она вторично готовится стать матерью. Первые признаки беременности почему-то поразили княгиню ужасом: она едва решилась сообщить Муфтелю для передачи князю, что ждет ребенка; с лица ее не сходило совсем несвойственное ей выражение испуга и беспокойства; она пожелтела, похудела; часто заставали ее в слезах. Потом она что-то писала, но либо уничтожала написанное, либо прятала листки невесть куца. Напротив, сам князь Александр Юрьевич был очень доволен и на этот раз ждал уже непременно сына.
Так и случилось. Восторг князя не знал границ.
– Ай да княгиня! ай да Матрена! – вопил он, буквально прыгая по залам дворца своего, – вот, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Полагали: ау! иссохла смоковница, – ан, глядь, врешь: взяла да плод принесла. Он велел звонить в колокола, палил из домашней пушки, богато одарил сельскую церковь, простил крестьянам оброк за год. Младенца отняли от бесчувственной матери – роды были очень несчастливы – и перенесли в большой дом, где окружили няньками, мамками, боннами. Мальчик был слаб, хил, мал, без ноготков.
– Боже мой! – воскликнула принимавшая его акушерка, – точно недоносок. Семимесячные не хуже бывают!
В хлопотах о сыне Радунский совсем забыл про жену и очень изумился, когда, дня через три, Муфтель с испугом доложил ему, что княгиня совсем плоха, и если он желает проститься, то поспешил бы прийти.
– Что же с нею такое?
– Не могу знать, ваше сиятельство. Надо полагать, либо молоко в голову бросилось, либо вообще уж… звезда такая…
– Доктор есть у нее?
– Как же-с! Двоих вызвал: из Костромы и из Ярославля.
Когда князь Александр Юрьевич пришел взглянуть на жену, Матрена Даниловна уже не узнала его. А он, если бы не знал наверное, что вот этот длинный, желтый, едва обтянутый кожею скелет – его жена, совсем не узнал бы ее. Так изменилась Матрена Даниловна за короткое, но ужасное мученичество своей болезни. Она умерла в присутствии князя. Видела она его или нет, – Бог знает. Взор ее поумневших, просветленных перед смертью глаз был мрачно и безразлично уставлен в какую-то далекую точку, созерцая ее, бедная женщина и отошла в вечность. Печально смотрел Александр Юрьевич в лицо покойницы, но не о ней – своей невинной жертве – жалел он…
– Грустным предзнаменованием начинаешь ты жизнь, сынок! – вырвалась наружу его заветная мысль.
Говорят, что беда одна не ходит, а беда беду ведет. Не успели воющие бабы обмыть охладевший труп княгини, как прибежал к Муфтелю испуганный казачок:
– Карла Богданович, у нас в саду висельник… покойник…
– Что? Кто?
– Матюшка-доезжачий удавился… на яблоне висит… на вожжах…
Муфтель за голову схватился.
– Это еще хуже княгини!
Матюшка-доезжачий был любимцем князя: мастер своего дела, ни разу не сечен, подарки имел. Парень был совсем еще молодой, не переломил третьего десятка, собою красавец писаный, богатырь, настоящий Бова-королевич. Нравом – не в обычай вол коя рекой распущенности – красная девушка, не пьющий, не охальник, не зернщик, – только песенник. На что уж княгиня-покойница недолюбливала наглую волкоярскую дворовую орду, а Матюшку – и она ласково привечала, отличая между всеми. С чего он вдруг так затосковал, что отчаялся в жизни и стал черту баран, никто в Волкояре не мог ума приложить: казалось, все в жизни улыбалось молодчине этому, а он – поди же ты! – вот те и на! Только одно о покойнике и вызнал Муфтель, что ночь перед тем, как удавиться, Матюшка провел на пасеке у деда своего, Антипа Пчелинца, и оба они до света не спали, а шепотами гудели между собою неведомую беседу.
Послал Муфтель за Антипом Пчелинцем, – ан, того нету. Работница говорит: внука проводивши, чуть свет ушел неведомо куда, мешок на плечи и посох в руках.
– Коли будут спрашивать, – говорит, – скажи: вернется, когда замолит погубленную душу. Не иначе, что в скиты поплелся, на Ветлугу…
– Без спроса-то? Без паспорта? Да я с него шкуру спущу! Три дня минуло, неделя, месяц, – Антип назад не бывал.
Значит, либо помер безвестно, либо ударился в бега, в старцы постригся – пропала ревизская душа. И опять было непонятно, – зачем? Антип Пчелинец был старик замечательный, – при князе Романе в хоромы казачком взят, а князя Юрия слуга, фаворит и когда-то прелютый приказчик. Князь Александр, войдя в наследство, отстранил Антипа от должности, как всех отцовых любимцев. Антип ушел на покой и занялся пчелами. Годы и пасека его будто переродили: сошелся со староверами, стал читать божественные книги и рукописные тетрадки, раздал решительно все деньги и ценные вещи, которые накопил во времена своего величия – и без разбора раздал, первому просящему. Из недавнего свирепого холопа выработался, в какие-нибудь десять лет, угрюмый созерцатель-начетчик… Что он кончит жизнь в скитах, того все ждали. Но – бежать-то было зачем? Спроситься у князя – тот не стал бы держать, мигом отпустил бы: ведь нерабочая сила в убыль из его хозяйства уходила, а ни на что непригодный старый старик, который даром хлеб ест.
Решили на том, что, надо быть, Матюшка – перед тем, как удавиться, покаялся деду в каком ни есть великом грехе и возжалел Антип внука – благословил его на вольную смерть, а сам бежал – душеньку его отмаливать.
– Под сердце подкатило, – толковал дворне Лаврентий Иванович, дворецкий, человек пожилой, почтенный и богобоязненный, весьма уважаемый самим князем, один из всей орды волкоярской, имевший разрешение ходить не в ливрее, но в «собственном» длиннополом гороховом сюртуке. – Когда подкатит под сердце господскому человеку, это – хуже нет. Единое средство против – в бега! А то долго ли бесу опутать душу человеческую? Бес у нас в Волкояре не то что людьми, – горами качает!
– Это так точно, – поддакивали ему, – княгиня-то перед смертью тоже была – как обаянная.
Тихо отпел и ранним утречком схоронил княгиню Матрену княжеский попик Кузьма – тот самый, что когда-то венчал ее с князем, чуть ли не под дулом пистолетным. А по селу – песни, догорает, чадя, иллюминация, всю ночь пылавшая плошками с салом и бочками смоляными… Князь на отпевание жены едва заглянул – только для приличия пред немногими успевшими к скорому погребению соседями; прощаться с покойницею не подошел и сейчас же, как понесли гроб из церкви, возвратился во дворец к сыну, предоставив положить жену в сырую землю Муфтелю и Хлопоничу.
Михайло Давыдок и вырыл, и зарыл могилу, – сам напросился по усердию к покойнице, потому что очень ее уважал за доброту. Много сердец потерял в этот день князь Александр Юрьевич. Почти громко гудели и соседство, и дворня, и село:
– Обиженная женщина!
– Загубленный человек!
С похорон этих отвернулось от князя и сердце Михаилы Давыдка, начинавшее было привязываться к старому властному барину за удаль, которой в обоих – и в господине, и в слуге – была полная чаша. Уж больно не любил несправедливости простодушный волкоярский богатырь. И всегда впоследствии хмурился, если кто-либо из дворни вспоминал при нем, хвастая, эти дни.
– Мы тогда на радостях целый месяц пьяны были!
– Хвались! – угрюмо рычал Михайло.
– А чего – нет? Не вру, правду говорю.
– Правда-то твоя не больно красивая. Помолчать бы о ней. Вот что. Праведница в гробу, а они дорогу водкой поливают! Похохотали, поди, над вами в аду бесы-то.
– Эх, Михайло Васильевич! Чего с нас взять? Русские люди! Не кори вином: татарином обзову.
Только головою качал на полузверей этих в чекменях и черкесках трезвый Михайло.
– Демон вас поймет, тутошных! Что радость, что горе – не разобрать у вас в Волкояре. Все равно, – все пьяные. И когда только вы, черти, протрезвитесь?
И слышал в ответ бесшабашные, взывающие о снисхождении, хмельные слова умиления едва лыко вяжущего и добродушного самоунижения:
– Милый человек! Не надо… на што?.. В Волкояре иной раз и пьяному-то совестно смотреть на Божий свет, а ежели человек тверезый… и-и-их!
И – выразительный пример был налицо:
– Вон – Матвей – покойник: в рот не брал вина… ну и повис на яблоньке!
Яблоня, на которой удавился Матвей-доезжачий, уцелела в волкоярском саду. На первых порах забыли срубить, а после князь пожалел: хоть яблоки кислые давала, да уж больно хороша была старуха – серебристая, раскидистая.
– И то сказать, – говорила дворня, – ежели у нас из-за каждого удавленника дерево рубить, так это и сада не станет.
VII
Как ни мало любил и уважал князь Александр Юрьевич свою жену, однако преждевременная кончина Матрены Даниловны сильно потрясла его. Может быть, потому, что это была первая смерть человека, хоть и не близкого ему по душе, но все-таки не вовсе безразличного, которая случилась у него на глазах.
– Такая молодая, сильная, здоровая, – думал он, – ей бы жить да жить… Смотри, экое дерево свалилось, а гнилушки держатся и коптят небо.
Загадка смерти припугнула князя. Сам он тоже прихварывал в последнее время, – старое пьянство и разврат откликались: там щемило, там покалывало; он ожирел, схватил одышку, а вместе с нею, поистине, Саулову тоску. Возраст его приблизился к роковому для Радунских десятку. Раздумавшись над судьбою Матрены Даниловны, князь не мог не сознать в глубине души, что он кругом виноват в ее ранней гибели, и голос напуганной совести мало-помалу нашептал ему суеверное предчувствие, что ему суждено еще заживо получить жестокое возмездие за грехи против жены. Мучась своим тяжелым настроением, в напрасном стремлении развлечься, Александр Юрьевич задурил пуще прежнего. Причудам его конца не было. Нелепые милости и напрасные наказания без разбора сыпались из рук его на правого и виноватого. Фаворитки менялись одна за другой. Муфтелю приходилось жутко: за свою многолетнюю службу князю он претерпел и пережил много унижений, только бит не бывал. А при новом настроении князя, выходившего из себя по всяким пустякам, не трудно было дождаться и этого.
– Хоть бы выдумать ему, черту, забаву какую новую! – мучился немец – и ничего не выдумывал: князю опостылело все земное, а он не знал ничего надземного.
В противность отцу своему, под конец жизни ударившемуся в ханжество, князь был более, чем не религиозен. Местный архиерей, когда объезжал епархию, демонстративно не останавливался у волкоярского магната, почитая его вольтерианцем и веротерпимцем – покровителем раскола. Да и вообще задерживаться в Волкояре не любил, чувствуя себя в недружелюбной среде. Князь тоже не терпел духовенства, однако своего попа Кузьму не обижал. Впрочем, и попик ему попался смирненький: ко всему на свете равнодушный, кроме своей старухи-попадьи и бесчисленных ребят, перед князем благоговеющий и всегда князю покорный.
– Ведь заставь я тебя, отец Кузьма, петь панихиду этому медведю, – сказал князь однажды, хвастаясь только что затравленным зверем, – и ты споешь.
Попик подхихикивал, благословляя втайне свою судьбу, что князь лишь примеривается к такой затее, а не приводит ее в исполнение. Так как население в Волкояре было, действительно, на две трети старообрядческое, писалось же оно все сплошь церковным, то жить попу Кузьме было очень сытно, даже не считая княжеских подачек. К вере он особенно не ревновал, а князь ему, сверх того, пригрозил, что если он будет соваться в раскольничьи дела, то ему не ужиться в Волкояре.
– Чуть первый донос – я тебе спуска не дам!
– Ваше сиятельство, но что же я должен делать, если начнут писать доносы против меня самого за нерачительность? Я человек неученый, неумелый. Меня консистория съест живьем!
– Приходи ко мне за советом, вместе будем отписываться. А расправиться с доносчиком будет мое дело. Ты так и оповести своих духовных – ябедников между вашей братии много, – что я за тебя ответчик. Думаю, что и доносов тогда не будет. Потому что меня и расправу мою хорошо знают.
– Осмелюсь, ваше сиятельство, спросить, – подобострастно осведомился священник, – какая причина, что вы так усердно защищаете сих еретиков?
Князь улыбнулся.
– А что? или ты и меня заподозрил в расколе?
– Смею ли я, ваше сиятельство? Но…
– Причина простая, батька. Сколькими перстами кто крестится – мне все равно. А миссионерства эти ваши через полицию лишь мутят мужику ум и душу. Мужик же, напуганный, со смущенною душою, не работник ни на себя, ни на меня. Не знаю, много ли пользы вы приносите церкви, но мне как хозяину от вас с обращениями этими, да проверками их, да слежкою, да поборами, – прямой вред. Личной же симпатии к сим толстобородым невеждам не только не питаю, но даже противны они мне, как все фанатики. И ты, батька, если будешь фанатиком, будешь мне противен, и посажу я тебя на такую ругу, чтобы тебе только не околеть голодом с попадейкой твоей и детишками.
Отсутствие религии не отнимает у человека возможности быть суеверным. Тысячами примеров доказано, что человеку легче переменить, ради выгод или даже прихоти, исповедание, расстаться с верою в бессмертную душу, стать кошуном и богохульником, чем не бледнеть при виде трех свечек на столе или сесть тринадцатым за стол. Князь был отменным суевером, приметчиком и любителем до всего таинственного.
– Там-то что? That is the question![7] – задумывался он, шагая по величественному своему кабинету, между портретами гордых предков, зорко глядевших на него со всех четырех стен.
– Выдумывают науки, искусства, а, в конце концов, единственное знание, которое нужно человеку, это – о том, что там, за перегородкою…
– За перегородкою-с? – робко недоумевал вечный слушатель князя, Хлопонич.
– О, дурак! – сердился князь, – за перегородкою между здесь и там, на тот свет… понимаешь?
– Да-с, если на тот свет, конечно, оно занимательно… только ведь, ваше сиятельство, страшно-с!
– Почему?
– А мытарства-то?
– Бред!
– Помилуйте, ваше сиятельство, как – бред? У моей Дунечки в тетрадку списан «Сон Богородицы», – без ужаса читать невозможно…
Но князь шагал и философствовал:
– Живыми телесными глазами не заглянешь через эту перегородку, как ни становись на цыпочки. Человеческий разум ничтожество. Он – до стены. А за стеною – дудки! бессилен! Покойная моя княгиня Матрена была дура, но она теперь знает, что там. А я не глуп, да стою в потемках, перед запертою дверью. Догадки, теории лопаются, как мыльные пузыри. Евреи говорят правду: в раю осел умнее мудрейшего из наших мудрецов. Поговорил бы я теперь с Матреною Даниловною… много охотнее, чем с живою.
В то время только что прошли по Руси первые слухи об американском спиритизме и появились первые адепты этого учения. Князь заинтересовался спиритизмом, выписал из Англии первые брошюрки Юма и с головою утонул в мире духов, грез и видений. Он изо дня в день занимался столоверчением, муча и Муфтеля, и тогдашних своих дворовых фавориток – Аграфену и Серафиму, в которых почему-то почудились ему медиумические способности. Бедняги решительно не понимали, что это за чертовщина и зачем, впутывает их в нее самодур-барин?! Аграфена была грамотная. Обе были сметливы. Однажды Серафима сказала подруге:
– Знаешь, Груша, этих самых щелчков, которых князь дожидается, я могу оказать сколько хочешь, и никто не догадается, что это я. Слушай.
Раздалось несколько костяных спиритических стуков.
– Как ты это делаешь? – удивилась Аграфена.
– Ишь ловкая: так и выдала, глупа была… Значит, повелась с господскими чертенятами – ведьмой стала!
Но Аграфена настояла:
– Ты знаешь: из этого нам может быть польза. Князь, когда долго не начинаются стуки, серчает, лается, – горе с ним тогда, одна неприятность. Когда ответы не складаются в слова, – еще хуже. А теперь, когда у тебя объявилось такое мастерство, у нас будут завсегда и удачные вечера – стало быть, без ругани – и складные ответы.
– Я стучу не хитро, – призналась Серафима, – большим пальцем на левой ноге. Он у меня не совсем по правилу: длинный и сухой какой-то, Бог с ним. Как сожмешь его, – он и щелкнет, точно орех раскусила. Я этим с детства баловала, братишек забавляла…
И, для примера, она простучала раз пятнадцать подряд.
– Могу и правою ногою, – только выходит хуже. Босою – ничего, а сквозь башмаки слабо слышно.
Девки похохотали вдоволь…
– Однако, – спохватилась Аграфена, – как же мы будем правильно стучать, если ты не знаешь счета буквам и на какую сколько раз надо щелкнуть?
– Видно надо учиться грамоте, а, покуда что, мы с тобой устроим знаки.
– Как же?
– Ты грамотная, буквы по азбуке знаешь в порядке и на счет быстра. Когда князь заганет вопрос, ты загадай ответ и делай мне знак перстами, сколько раз выходит стучать по буквам; а не то за пуговицу возьмись рукою… «Да» – глаза прищурь; «нет» – ухо почеши. Уж все эти знаки мы придумаем, успеем. А я буду коситься на тебя да постукивать по твоим знакам.
В первые дни знаков подруги сбивались и путались, но скоро навострились, так что сеансы – к великому удовольствию князя – пошли гладко и интересно. Ответы получались удовлетворительные почти на все вопросы, которые князь ставил коротко и ясно, а на длинные или предложенные на иностранных языках стол стучал на удачу: «да» или «нет». Когда «духи» отвечали невпопад, и князь переспрашивал или пробовал забираться в сбивчивые подробности, стол сердился и выстукивал:
– Не хочу говорить.
Увлеченный спиритическою удачею, князь не подозревал обмана. Муфтель смекал, что между девками завелось какое-то мошенничество; он замечал, что они иной раз очень хитро переглядываются и даже как будто едва удерживаются от смеха; но, не понимая в чем дело, он только принимал лукаво-строгий вид: знаю, мол, я все ваши шашни и проказы, – чем, разумеется, утешал Аграфену и Серафиму еще больше. Впрочем, немца и самого забавляло, что так по-детски увлекается князь, который мнит о себе, что он на три аршина под собою насквозь видит.
– Удивительный человек наш князь! – говорил управляющий Хлопоничу, – в Бога не верит, в дьявола не верит, а в девок щелкающих уверовал!
Александр Юрьевич, в самом деле, был человеком проницательным и легко угадывал людей. Но теперь фантастическая страсть совсем заслепила ему глаза. Его несколько огорчало, что стучащий ему дух-безымянный. Он много раз спрашивал:
– Кто ты?
И не получал ответа, потому что Аграфена не знала, как отвечать, и давала Серафиме знак: «Не хочу».
Наконец Муфтель сказал медиумичкам:
– Девки, вы бы хоть нарекли как-нибудь вашего сатану: вот как его сиятельство по нем убивается, что он не помнит своего родства и имени.
– Какого сатану, Карл Богданович?
– Э, полно! разве я не понимаю, что все эти разговоры устраиваете вы, бестии. Только как вы это проделываете, – не могу отгадать.
– Ах как много в вас ошибки! – воскликнула Серафима, – смели бы мы шутить с князем?
– Стало быть, и в самом деле, шалят черти или покойники?
– Конечно, черти, Карл Богданович… Нам с Аграфеной от этих сеансов даже жутко, потому – хоть и не наша в том вина, а господский приказ, – но все же какого греха мы набираемся! Ведь это волшебство. За него в ответе на том свете. Да и страшно, инда дрожим.
– Ладно. Видел я, как вы дрожите. Палец вам покажи в то время, – обе прыснете. Щеки от смеха лопнуть хотят. Вот возьму и покажу палец.
Девушки расхохотались.
– Нет уж, Карл Богданович, не показывайте, а то и впрямь неровен час.
– Хорошо. Секрета вашего я знать не хочу. Черти – так черти, однако и у чертей бывают имена.
Девки приняли совет к сведению. В ближайший сеанс, на вопрос:
– Как тебя зовут? Стол простучал: – Анфис Гладкий.
Этот Анфис долго пребывал в оракулах с переменным успехом. Трудно было девкам морочить князя только тогда, когда он, уверившись в своем неизменном общении с таинственным Анфисом, стал писать и говорить свои вопросы не открыто, потаючись, про себя. Тогда Анфис внезапно глупел и нес бестолочь, попадая ответом на один из десяти вопросов, да и то двусмысленно. Князь сердился, однако не утрачивал веры.
Однажды Хлопоничу привалило счастье. Дальняя родственница, седьмая вода на киселе, умерла бездетною, и Хлопоничу, ближайшему и единственному наследнику, досталось весьма недурное именье в Симбирской губернии. Сперва Хлопонич задумался: не перебраться ли ему в новые владения? Но, посчитав, убедился, что никакими хозяйственными доходами и выгодами не заменит он щедрот князя, которые, конечно, немедленно потеряет, если скроется с глаз волкоярского владыки. Приязнь-то у него недолгая: прочь с очей, – вон из памяти. Иметь же доходы с заглазного хозяйства Хлопонич не надеялся. Тогда он стал просить князя, чтобы тот купил у него это симбирское именье, так как оно близко прилегало к тамошним землям Радунского.
– Сколько просишь?
– Ваше сиятельство, просить не смею, что изволите пожаловать, то и возьму.
– Подай Муфтелю справки… если окажется недорого, оно мне, пожалуй, кстати, я возьму.
Насчитали Муфтель с Хлопоничем семьдесят тысяч. Поморщился князь:
– Большие деньги. Взмолился Хлопонич.
– Ваше сиятельство! Вы имение знаете: вдвое стоит.
– Ну хоть и не вдвое, а семидесяти тысяч – это ты прав, помню, – стоит.
– Так зачем же дело стало, ваше сиятельство? Соблаговолите!
– Да решиться тревожно, братец. Это тебе не Мышковские хмельники. Деньги велики.
– Развяжите душу, ваше сиятельство.
– Спешишь?
Стал Хлопонин плакаться, что старший сын от первого брака жениться задумал, выдела просит, а второй и третий – один кончает корпус, другой Демидовское училище в Ярославле, обоих надо на службу экипировать; что от второго брака дети тоже – кто уже свезен учиться в Кострому, кого пора везти, маленьких полон дом, а Авдотья Елпидифоровна опять на сносях ходит… Выслушал князь, кивнул головою.
– Хорошо. Я спрошу… посоветуюсь.
Изумился Хлопонич: когда же это было, чтобы князь Александр Юрьевич советников не то чтобы искал, но хотя бы принимал?
– Помилуйте, ваше сиятельство! Кого вам спрашивать? Вы сами все на свете лучше всех знаете.
– Духа спрошу, стол стучащий. Как он скажет о твоем имении, так тому и быть.
Оторопел Хлопонич.
– Слушаю, ваше сиятельство.
– Сегодня же вечером. Первым вопросом твое желание поставлю. Вот – нарочно – при тебе в памятную книжку записываю, – смотри: «Взять ли мне за себя симбирское имение Хлопонича?» Возблагодарил Хлопонич князя и – по обычаю всех волкоярских просителей – бросился к фавориткам князя, медиумичкам Аграфене и Серафиме, с подарками и деньгами.
– Старайтесь, голубушки! Если устроится мое дело, я вас и еще благодарю!
Девки деньги и подарки взяли, но на посул заявили:
– Нет уж, вы, Андрей Пафнутьевич, это ваше «еще» теперь нам пожалуйте, до сеанса. А то мы – ученые! После дела с вашего брата взятки гладки.
– Богом вам клянусь, кралечки: ежели выгорит мое дело, не пожалею прибавить сто рублей.
– Не очень-то расщедрились: сами семьдесят тысяч ухватить норовите.
Сторговались на двухстах, да изумрудные сережки должен был подарить Хлопонин Аграфене, а Серафиме – отрез французского бархата.
К вечернему сеансу князь вышел серьезный и задумчивый. После обеда он видел во сне Матрену Даниловну и очень нехорошо, грозно видел. Пришла голая, желтая, обрюзглая. Ходит кругом, губами красными ворочает, чавкает, что-то жует.