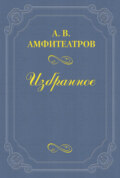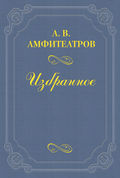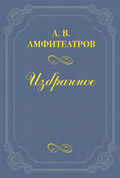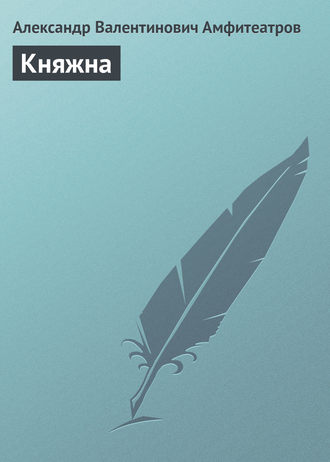
Александр Амфитеатров
Княжна
– Я этот Венерин грот велел засыпать.
– Какая жалость! зачем же это, князь?
– Становые от него уж очень шарахались, ваше превосходительство. «Не можем, – говорят, – здесь близко стоять, ибо место сие есть свято».
– Не понимаю, князь.
– Существует, ваше превосходительство, такая легенда об этом Венерином гроте, будто на сем самом месте дед мой, князь Роман, наказал розгами на теле современного ему плута-губернатора со всею его челядью. Ввиду такой неприличной легенды, ваше превосходительство, я, человеколюбиво щадя чувства становых, распорядился уничтожить грот. А, впрочем, если он вашему превосходительству так нравится, я, пожалуй, прикажу его восстановить.
– Благодарю-с, – говорит наш, – сам налился кровью, еще минута и паралич. Мы сидим ни живы, ни мертвы, князь же – как ни в чем не бывало. Так вот-с это какой человек! А вы говорите: не высечет…
Народная молва, с губернаторского слова, так и прославила князя Александра Юрьевича «Чертушкой на Унже». Кличка, однако, не мешала крестьянам чувствовать к князю большое уважение. Помещик из Александра Юрьевича вышел – надо отдать справедливость – хороший и управляющего нашел себе под пару – немца Муфтеля, из отставных гвардейских унтер-офицеров. Этот Муфтель обрусел настолько, что мог бы сказать о себе, как гоголевский Кругель: «Какой уж я немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки». Князь очень любил этого исполнительного крутого служаку и в шутку звал его своим Аракчеевым. Но маленький волкоярский Аракчеев был куда и мягче, и честнее большого Аракчеева грузинского. Князь и Муфтель не били мужика по карману, не разоряли, не вымогали, в нужде давали немедленно помощь на поправку; но оброки Муфтель взыскивал с неумолимою строгостью; барщина была дельная; за добропорядочностью труда следили сурово.
– Если, – говорил князь, – я вижу, что мужик плохо работает на меня, я ему спущу шкуру со спины; если я замечу, что он худой работник на себя, я его переверну и спущу шкуру с брюха.
Словом, барин был грозный, но не жадный и, что в соседских, что в господских отношениях обычного права, довольно справедливый. Особенно нравилось, что он мир уважал и в мирскую волю не мешался, предоставляя крестьянству самоуправляться, как оно знает – к своему лучшему и как от отцов заведено. Мироедам засилья не давал и никогда не отказывал своему мужику в помощи купить рекрутскую квитанцию либо поставить за себя охотника. Его мелкое тиранство и самодурство мало касались села – это оттерпливала дворня, почти вся пришлая: переселенная из других княжеских поместий либо даже наемная. Князь любил иметь в услужении закабаленную какою-либо безвыходностью вольную голь. Жалованья им не платили, но – живи, сколько хочешь, за сытые кормы, угол и одежу.
– Эти люди надежнее, – говорил князь. – Своего мужика я – хорош ли он, нет ли – все равно, должен терпеть. Драть его за худую службу – не радость. В солдаты сдать – себе убыток. А вольный да голый всегда в страхе: ну прогоню я его, – куда он денется? Волкоярские крестьяне, таким образом, благоденствовали и слыли по округе завидными богачами. И, если б Александр Юрьевич меньше обижал их по бабьей части, пожалуй, его даже любили бы.
IV
В зелени векового волкоярского парка тонул красивый каменный флигель, построенный еще князем Романом для одной из его многочисленных любовниц, которую он увез от мужа, потому что находил ее похожею на Психею, а мужа «и Ферситом коль назвать – Ферситу будет злая клевета и обида». Флигель, по имени Психеи, так и звался: «Псишин павильон». Волкоярская чернь, в мифологическом своем неведении, переделала мудреные слова по понятному для нее созвучию – и стал павильон не Псишин, а Псицын. Впоследствии наследник князя Александра Юрьевича приказал разметать эту постройку до основания. Очень уж грустные воспоминания дарило ему ветхое здание. Здесь провела свою безрадостную жизнь и отдала Богу душу «нечаянная княгиня» Матрена Даниловна. Сверх всякого ожидания, Радунский после своей дикой женитьбы не бросил бедную идиотку на произвол судьбы. Обвенчанная чуть не насильно попом, запуганным настолько, что вряд ли он сам понимал в те страшные минуты, какой именно обряд он совершает, – княгиня после свадьбы безумно влюбилась в своего грозного супруга. Она выказала ему столько слепой и рабской преданности, что даже никогда никого не жалевшему Радунскому стало совестно обижать это убогое существо. Притом в первое время он сам был не совсем равнодушен к своей молодой, полной здоровья и силы, жене, увлекаясь ею, конечно, по-своему, – грубо и чувственно: только так вообще умел увлекаться и любить суровый «чертушка». Александр Юрьевич счел нужным увековечить свою жену в мраморе и красках: выписал в Волкояр из Петербурга скульптора и живописца, а из Италии – глыбу каррарского мрамора, – и вот фамильную портретную галерею Радунских украсила Леда, а цветник сада – белая Церера, скопированная с монументальных форм Матрены Даниловны. Возвратившись в Петербург, художники – оба с именами – кажется, не столько были рады огромным деньгам, какие заплатил им князь, сколько удовольствию вырваться, наконец, из гнезда «чертушки», откровенно блеснувшего пред ними всеми своими чудесами и безобразиями. Живописец – человек старого века, почтенный и богомольный, хотя и сделал свою карьеру и даже стал знаменитым именно как специалист по женскому телу, которое он вырисовывал столь обстоятельно, что драгоценные картины его потомство сохраняет под зеленым коленкором – даже лишний раз говел по возвращении в Петербург и сам просил священника назначить ему какую-нибудь епитимью:
– Уж очень много греха, батюшка, хватил я в проклятом Волкояре… Кажется, в Содом-Гоморре подобных игр не видно, как его сиятельство забавляться изволят!
Мифологическая позировка стоила Матрене Даниловне немало стыда и слез, но она очень хорошо знала крутой нрав своего супруга, чтобы возражать против его прихоти. Откровенную Леду впоследствии уничтожил сын Радунских, князь Дмитрий Александрович, благоговевший пред памятью своей матери, хотя он никогда ее не видал: Матрена Даниловна умерла именно его родами. Цереру же, по смерти княгини, приказал убрать сам князь Александр, так как между дворнею прошел суеверный слух, будто мраморная княгиня по ночам ходит по саду, стонет и плачет.
Введя Матрену Даниловну в свой дом, Радунский сперва окружил ее истинно-княжеским почетом и от души хохотал, когда бедняжка невольно разыгрывала роль вороны в павлиньих перьях. Но вскоре забава эта прискучила Александру Юрьевичу, и он бесцеремонно перевел беременную жену в садовый флигель, где она и стала жить да поживать одиноко, на странном положении жены – не то в отставке, не то в бессрочном отпуску. Радунскому очень хотелось иметь наследника. В его мрачной, безбожной, но суеверной душе жили самые тяжелые воспоминания об ужасном детстве, прожитом под властью ненавистника-отца. А отцу он не простил и за могилой. Князь Александр Юрьевич знал, как о нем говорят и думают люди, сам лучше всех понимал дикие выходки своего самодурства.
«Я зверь, я чертушка, – мрачно думал он, стоя пред портретом отца, который улыбался ему с полотна своим лицемерным, язвительно-красивым лицом, – но кто меня сделал таким? ты, изверг, ты!..»
Как бы в возмездие за самого себя – потому что самого себя он, чем становился старше, тем откровеннее считал истинным несчастьем и казнью рода Радунских, – князь Александр Юрьевич мечтал создать из своего наследника человека, которого благословляли бы люди, – «ангела мира и кротости». Князь обожал несуществующего сына заранее.
– Воспитаю его чистым, как стеклышко, – говорил он, – он снимет с меня все пятна; он должен сделать для нашей фамилии все, что я был бессилен сделать, по злосчастной натуре моей, подлому воспитанию и ожесточению моего отрочества. Пусть он будет и умен, и образован, и великодушен, – слава роду, слуга отечеству. Мы, проклятые, выбились из истории, пусть же он снова введет нас в историю. Тогда и меня помянут за сына, не злым, но добрым словом – что я родил и воспитал такого, что я не загубил его, как меня загубил мой старик…
Этим заключением неизменно завершались его беседы и размышления о будущем ребенке. Точно мечты князя о сыне-идеале рождались как противовес унылым отголоскам его собственного детства, точно он собирался быть образцовым отцом, потому что собственным горьким опытом узнал, каким отцом быть не следует.
Княгиня обманула ожидания мужа и родила дочь Зинаиду. Гнев князя был ужасен. Появление дочери вместо сына расстроило вконец его мечты. Он был оскорблен до глубины души. Сколько ни было Радунских в родословном древе, у всех были первенцы, а у него – на поди – девчонка! Он не ждал дочери, не хотел ее; он считал ее появление нарушением законов природы и исторической справедливости. И за все это возненавидел ее так же жестоко, как ненавидел его когда-то покойный отец, князь Юрий. Под впечатлением первых поздравлений с дочерью, в первом порыве гнева, князь сделал родильнице страшную сцену, так что она от испуга захворала и, после родильной горячки, едва не потеряла последний остаток своего скудного ума. Наконец, даже тупую, рабскую, полуживотную душу Матрены Даниловны ожесточили безумства и злосердечие Александра Юрьевича. Матрена Даниловна не жаловалась, не плакала, хотя лишь слоновой натуре своей она была обязана тем, что распущенность князя не отправила ее на тот свет. Но с этих пор муж умер для нее: она отдала всю свою привязанность отвергнутой отцом новорожденной, а князю оставила тупую бессловесную покорность – покорность бессильного страха. Года через полтора гнев князя обошелся. Он возвратил княгине свою милость, – слишком поздно, чтобы возвратить себе ее любовь и воскресить ее разбитое сердце. А встречая дочь, только равнодушно произносил:
– Это та самая девчонка, что ли?
Зина росла, не зная отца. Она жила во флигеле с матерью. Князь один-одинехонек коротал дни в большом доме-дворце, превосходном здании XVIII века, начатом стройкою еще при императрице Елизавете лейб-компанцем князем Федотом Радунским по плану и рисункам Растрелли, а доконченном уже в екатерининское время князем Романом, с поправками и вариантами Баженова.
Дикая и разнузданная жизнь шла во дворце, хотя и жизнь под вечным страхом. Порядок дня шел скачками – как придется, глядя по тому, когда и каков духом встанет с постели князь Александр Юрьевич. Обеденный стол готовили к полдню, а случалось, что князь садился за него едва в сумерки. Обеденная церемония совершалась изо дня в день с большою торжественностью. В старинной холодной столовой накрывали стол на двенадцать приборов, хотя садился за него, если не было гостей, только сам князь и, в очень редких случаях, в виде особой милости, управляющий Волкояром, немец Муфтель. Гостей полагалось иметь не больше одиннадцати, чтобы за столом сидело, вместе с хозяином, не свыше двенадцати человек. Если приезжал тринадцатый, ему был – от ворот поворот. За каждым стулом, занятым ли, порожним ли, стояло по лакею – в ливрее и на вытяжку, – лично князю прислуживали две красивые девки, любимые одалиски его крепостного гарема. Перед этими двумя фаворитками гнул спину весь Волкояр, не исключая и Муфтеля. Дело в том, что после обеда князь делался податливым на просьбы, охотнее миловал виноватых, легче принимал неприятные известия; между тем только две избранницы его сердца имели право входить в его покои во время послеобеденного отдыха.
Крупных соседей у волкоярского хана не было. А те, которые были покрупнее, по возможности, избегали бывать у него, храня свое достоинство от насмешек и унизительных выходок князя. Зато в большие праздники, когда положение об одиннадцати гостях отменялось, дворец наполнялся мелкопоместными дворянчиками-просителями и прихлебателями, чающими княжеского угощения и благодеяний. И потешался же князь над этою нищею толпою!
Однажды на Рождество он вышел к обеду сердитый. Подали суп. Князь попробовал и оттолкнул тарелку.
– Эй вы! – сказал он, – какой это суп: скоромный или постный?
– Скоромный, ваше сиятельство, – отозвалось несколько недоумелых голосов.
– А я говорю, что постный.
– Постный, ваше сиятельство, – торопились согласиться голоса.
– А день сегодня какой?
– Вторник, ваше сиятельство… – сказали одни.
– Какой вашему сиятельству угодно, – сказали другие.
– Кто говорил: «вторник»? – громко крикнул князь, – пятница!
– Пятница, ваше сиятельство!
– Значить, суп постный, а день – пятница?
– Точно так, ваше сиятельство.
– Ну а так как я не хочу, чтобы в моем доме потакали поповским предрассудкам и ели по пятницам постное, то и… не жрите вовсе!
Вышел из-за стола и скрылся к себе в кабинет, где его ждал другой обед. Голодные гости разъехались, втихомолку ругаясь.
Решительно никого не уважал и ровнею себе не считал, ни с кем и ни в чем не стеснялся. Созовет гостей со всех волостей и, оказавшись не в духе, не выйдет к ним, вышлет – «быть за хозяина» – Хлопонича либо которого-нибудь из мелкопоместных своих дворянчиков-прихлебателей: этими полушутами-полулакеями, чающими кормов и благодеяний, всегда кишел волкоярский дворец.
Как-то раз князь устроил такую штуку даже на именины свои, 30 августа, когда в Волкояр съехалось все уездное дворянство и многие чины из губернии. Только и чести прибавил, что вместо Хлопонича посадил на председательское место любимца своего, губернаторского чиновника Вихрова и, конечно, не «послал» его, но «попросил». Молодой человек сконфузился было, начал отказываться:
– Помилуйте, князь, среди ваших гостей столько почетных лиц старше меня возрастом и гораздо более заслуженных.
– А черт с ними! – бесцеремонно отрезал князь. – В вас мне нравится именно то, что вы молоды и еще не служили. Когда у вас на шее будет висеть владимирский крест, а может быть, даже протянется через плечо красная лента, – тогда, поверьте, господин Вихров, я уже не попрошу вас быть моим заместителем. В матушке России порядочны только молодые люди, не перевалившие за тридцать лет.
– Но у вас в доме находится маршал наш, губернский предводитель дворянства…
Князь ядовито скривился.
– Достаточно и того, что я каждое трехлетие покрываю его недочеты и тем спасаю шкуру его превосходительства от энергии господ дворян, кои до нее добираются. Что вы, господин Вихров! Уж если мне выбирать из лакеев, то я Муфтеля пошлю, или Лаврентия-дворецкого, или егеря Михаилу Давыдка: они, по крайней мере, честны.
За обедом гости решили все-таки отправить Вихрова к отсутствующему хозяину депутатом, чтобы от имени всего общества чокнулся с именинником шампанским и произнес приличную речь. Вихров застал князя за пикетом с Хлопоничем. Александр Юрьевич очень обрадовался юноше.
– А! приятно, что пожаловали. Что это? Шампанское? Ах, да… тост? Ну, нечего делать, произносите ваш тост.
Выслушал, выпил, кивнул головою.
– Тост к черту… глупости! Очень мне нужен их пьяный тост!.. А с вами мы еще выпьем. Я рад с вами выпить. Люблю пить с умным человеком. Я, господин Вихров, когда-то сам был умный человек. Ваше здоровье!
Пьет и смеется.
– И образованный был. Да. Очень образованный. Байрона в подлинниках читал. В масонской ложе молотком стучал. С Пушкиным в Кишиневе был приятель. И после встречались. Положим, только в штосе играли, но – все-таки… А хорошо он писал стихи, Александр Пушкин:
Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль… –
Пушкин многое получше этого написал, князь! – почти обиделся Вихров.
Александр Юрьевич внимательно изумился:
– В самом деле? Не знаю… не помню… Возможно!.. забыл… Во всяком случае, очень рад. Он был презабавный, Саша Пушкин… Конечно, между нами сказать, не более как дворянин среднего круга, сел не в свои сани; в свете, между этих новых, жалованных, он был смешненек. Но все-таки жаль, что его французишка Дантес застрелил так глупо, и Мишель Лермонтов прекрасно о том в стихах описал. Из-за бабы!.. Нашел, за что умирать. Я и Наталью Николаевну знал… Ну – что же? Красавица была, но – баба, кругом баба… Бойтесь видеть в бабе человека, господин Вихров! Держитесь мужицкого взгляда, что у бабы, что у кошки, вместо души – пар. Это мрачно, но справедливо.
Он усмехнулся и продолжал:
– Да, да, да… Вот как идут времена и меняются люди, господин Вихров! Был приятель с Пушкиным, а теперь – приятель с Хлопоничем…
Хлопонич так и привскочил на стуле.
– Смею ли я, ваше сиятельство? – шутить изволите…
– Почему же не смеешь? С Пушкиным я в штосе играл – с тобою в пикет играю… только и разницы!
Омрачился, поник головою и повторил:
– Только и раз-ни-цы!
И, с усмешкою, договорил:
– Нехорошо это, господин Вихров, когда человек проживет свою жизнь так, что для него между Пушкиным и Хлопоничем только и разницы остается: с одним играл в штосе, с другим – в пикет… А могло быть и наоборот… Ха-ха-ха! Вот – доживу лет до семидесяти, память ослабеет, начну из ума выживать, – и вовсе различать перестану, который из двух Пушкин, который Хлопонич…
Он долго и зло смеялся, потом ткнул пальцем на стенной портрет князя Юрия:
– А все вот эта красивая рожа виновата! И задумался глубоко.
Вихров думал уже, не беспокоя его хмурой задумчивости, тихонько отойти, как князь окликнул:
– Господин Вихров, вы знаете на память какие-нибудь этого… Пушкина… стихи?
– Я не какие-нибудь, а все стихи Пушкина знаю на память, ваше сиятельство!
– Будьте добры – прочтите мне что-нибудь.
Вихров подумал: как бы не влопаться? Пушкин так обширен: не хватить бы что-нибудь хозяину не в бровь, а в самый глаз? – и, с осторожностью, прочитал сильную, но безобидную «Элегию»:
Безумных лет угасшее веселье Мне тяжело, как смутное похмелье…
Князь одобрительно кивнул головою и сказал с недоумением:
– Он, однако, в самом деле, умен был – Пушкин? Это глубоко… Пожалуйста, еще!
Вихрова просить не надо было. Красивый и страстный декламатор, он рассыпал перед угрюмым князем весь лучший жемчуг пушкинской лирики. Князь внимательно слушал, покачивая головою и изредка бросая короткие словечки:
– Красиво…
– Правда…
– Умно…
– Еще, еще, пожалуйста!.. Прошу!..
Вихров, увлекаясь, читал пьесу за пьесою – и, давно позабыв о своем слушателе, выбирал только стихотворения уже по охватившему вдохновению – самые свои заветные, любимые, какие в пламенную голову приходили и мысль жгли, к которым больше влекло молодое, кипящее гражданским огнем сердце:
Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимых поток
На лоне счастья и забвенья! –
гулко звенел страстный, высокий голос под лепным, в фресках, екатерининским плафоном…
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее тащится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут;
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея…
Ужасное рабским испугом лицо Хлопонина, корчившего предостерегающие гримасы, изумило Вихрова – и тут вдруг, как молния, осветило его запетую стихами память:
«Да – что же это я – с ума сошел? Кому читаю? Князю Александру Юрьевичу Радунскому! „Чертушке на Унже“ читаю!»
Князь сидел в креслах своих, красный, стеклышко выпало из глаза, рот раскрылся и по щеке кралась к усам одинокая капля крупной слезы… Плохо дочитал сконфуженный Вихров гениальное стихотворение, слишком живо чувствуя, что не в ту аудиторию он попал.
Кончил. Долго молчал князь, видимо, потрясенный.
– Да, это все так, господин Вихров, – сказал он, наконец. – Совершенно так. И это страшно, господин Вихров… да! страшно!.. Благодарю вас за все, а за «Деревню» в особенности…
– Уррра-а-а-а-а! – взревел в это время нескладный взрыв сотни голосов.
Князь сотрясся, как от нервического удара.
– Кто смеет? Где? Хлопонич! Что такое?
Хлопонич бросился к окну и доложил:
– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, – ничего чрезвычайного: гости вышли в сад и пьют здоровье вашего сиятельства…
– О, черт бы их побрал! Муфтель!
Муфтель вырос, как из-под земли.
– Пойди, скажи этим скотам, что я занят, – не смели бы орать под окнами!
Вихров вспыхнул.
– Позвольте вам заметить, князь, что там нет никаких скотов, но лишь благородное общество, удостоившее меня избранием – быть пред вами его представителем.
Князь вставил в глаз стеклышко и стал как ледяной.
– Что же из этого следует, господин Вихров?
– То, что я также, значит, зачисляюсь вами в категорию, вами поименованную.
– Я вас не зачислял, но – в какой категории себя числить, вам, господин Вихров, несомненно, самому лучше знать.
– В таком случае… – глухо произнес Вихров, бледный, с ходячею челюстью, голосом, в котором от волнения кричали петухи. – В таком случае… Вы, князь, вдвое старше меня, – и искать обычного дворянского удовлетворения оружием я на вас не могу… Но из дома вашего я должен удалиться… Любезнейший! – обратился он к уходящему Муфтелю, – прикажите подать моих лошадей.
Муфтель остановился, глядя на господина своего в замешательстве: таким тоном при нем с князем Александром Юрьевичем никто еще не разговаривал. Хлопонич трепетал, ни жив, ни мертв.
Князь высоко поднял брови – подумал – и очень любезно возразил Вихрову:
– Вам лучше переночевать, – уже темно, а дороги худые.
– Нет-с, я поеду.
– Как вам угодно… Муфтель, распорядись.
И, уже не глядя на Вихрова, тоже вышедшего с коротким кивком вместо поклона, взял карты давно забытого пикета.
– Четырнадцать королей, Хлопонич. Вот привалило-то!
– Па… па… пас… Играли…
– Скажите, пожалуйста! – воскликнул князь, бросая на стол новую сдачу, голосом, скорее удивленным, чем сердитым, – каков мальчик объявился? Нотации мне читать приехал… вот гусь-то? Хлопонич? А? Хлопонич залепетал было:
– Опомниться не могу… Неисповедимо растет дерзость человеческая… Только что снисхождение вашего сиятельства, а то бы…
– А ты молчи, – оборвал князь. – Тебе ли о нем судить? Он порядочный человек, а в тебя вместо души природою всунута поношенная ливрея!
В ближайший же свой приезд в губернию князь Радунский удивил город и взбесил завистью власти и знать, сделав Вихрову личный визит. Конечно, о каких-либо извинениях при этом свидании даже и речи не было, и неприятная история на княжеских именинах не была помянута в беседе хотя бы словом. Но – обыкновенно, почиталось уже честью, если князь Радунский, в виде ответного визита, присылал с кем-либо из своих прихвостней, буде не просто с камердинером, свою карточку, – а тут личное посещение – и кому же? столь незначительной особе, как чиновник особых поручений, да еще из ссыльных! Это было равносильно извинению. Вихров был растроган, и сделались они – старый и юноша, деспот и демократ – осторожными друг к другу, совершенно не фамильярными, но, по существу, большими друзьями. Впоследствии князь даже пригласил Вихрова подписать в качестве свидетеля свое завещание, которому суждено было наделать немало-таки шума в России.
V
Княгиня Матрена Даниловна, робея пред мужем, – а робела она до того, что, завидя издали его, тихонько творила кресты и читала про себя молитву Давидову, – ни словом не решалась заикнуться, что дочка ее растет, что Зине нужно хоть какое-нибудь образование и воспитание. Помощи со стороны ей тоже неоткуда было ждать. Всякое постороннее вмешательство в дела князя только раздражало его и вело к тому, что он поступал наперекор – хоть дико, да по-своему. Единственный человек, имевший на волкоярского хана некоторое влияние, монах Иосаф, в эту пору уже умер. Наконец, Муфтель сжалился над бедною матерью и, зная, что с князем невозможно говорить о дочери, самовольно выписал для девочки гувернантку, пожилую обруселую немку, свою дальнюю родственницу. Немка прибыла и была водворена во флигель, как некая контрабанда, с строгим запрещением выходить, до поры до времени, за порог своей комнаты – «пока князь не обдержится». Оставалось доложить князю о сделанном. Обе застольные и послеобеденные фаворитки князя наотрез отказали Муфтелю в посредничестве.
– Нет уж, Карл Богданович! – говорили они, – выпутывайтесь сами, как умеете. В другом чем-нибудь готовы служить с великой радостью, а в этом – извините. Вам самим довольно хорошо известно, каким зверем становится князь, когда ему что-либо напоминают насчет княжны. Своя рубашка ближе к телу! Вы знаете, каков наш князь, когда серчает… Он спину-то под бархат отделает… с разводом.
– Да ведь жалко девочку, и княгиню жалко… – уговаривал Муфтель.
– И самим нам жалко, а только мы не можем. Розги не свой брат.
– Уж и розги!
– Наш князенька без розог ни на шаг.
– Пожалеет таких красавиц.
– Да, как же! пожалел волк кобылу – оставил хвост да гриву!.. Про Клавдию забыли что ли? Уж она ли не была у него в силе, а ведь не пожалел. Разве у него есть человеческие чувства? Ему что я, что она, что другая-третья. Была бы девка, а которая – все равно, – ни к кому любови нет! Он нас, поди, и по именам-то не знает.
Клавдия, о которой говорили девушки, была взята в гарем из деревни – всего на семнадцатом году. Вскоре она забрала над Александром Юрьевичем такую власть, как ни одна из княжеских фавориток ни прежде, ни после. Это создалось сходством характеров. Зверь наткнулся на звереныша. Клавдия, во все время своего властного случая у князя, никогда ни за кого не попросила. Наоборот, по ее жалобам, частенько оглашалась криками барская конюшня, немало людишек отправилось на поселение в далекие вотчины. Фавор князя к этому бесенку во плоти дошел до того, что Александр Юрьевич начал сажать Клавдию с собою за обеденный стол. Этому порядку он не изменил и тогда, когда, в кои-то веки, в Волкояре проявился гость-ровня – дальний родственник князя, тоже самодур не из последних. Дня два или три все обходилось благополучно. Но в один день Клавдия забылась: заговорила с князем чересчур капризно и фамильярно. Гость-родственник улыбался: ага! есть, мол, и на тебя гроза-страстишка, которая держит тебя под башмаком! Князь внугренно взбесился, как сатана, но в лице его хоть бы жилка дрогнула. Он только кивнул пальцем Муфтелю и бесстрастно шепнул ему приказание, а управляющий бесстрастно его выслушал. После обеда гость и хозяин отправились в бильярдную. Гость только что намылил кий и прицелился в шар, как вдруг в соседней зале раздались отчаянные вопли.
– Это что такое?
– Пустяки: наказывают одну виноватую девушку…
– Послушайте! но ведь это голос вашей… как ее там зовут? Клавдия…
– Изволите не ошибаться.
Князь с треском положил шар в лузу. Партия тянулась, крики не прекращались. Гость сказал:
– Однако она страшно кричит… простите ее, князь!
– Вот доиграем партию, – и прощу, у меня такой порядок.
– Но она действует на нервы…
Князь сказал казачку:
– Пойди скажи Клавдии, чтобы она не смела кричать, а не то я сыграю две партии…
Князь выиграл. Опираясь на кий, он учтиво поклонился гостю:
– Угодно реванш?
– Нет, покорно благодарю… вы сильнее меня… довольно, – забормотал гость, опасливо оглядываясь через плечо на двери, откуда неслись уже не крики, но мычанье.
Князь пожал плечами.
– Как угодно!
И, обернувшись к дверям, приказал:
– Муфтель, довольно…
Тем же вечером еще бесчувственная Клавдия была отправлена в самую дальнюю вотчину и, по прибытии на место, немедленно была выдана замуж за самого бедного и тоже штрафованного мужика – вдового и с детьми.
Печальную участь Клавдии, рано или поздно и в большей или меньшей степени, испытывали все крепостные фаворитки князя. Когда любовница ему прискучивала, он, придравшись к какой-нибудь провинности, сплавлял ее в степные деревни, где бедняжку постигала самая плачевная судьба. Из недолгой роскоши она попадала в вековечную нужду. Из среды лести и подобострастия переходила в среду, где ее ненавидели, презирали и злорадно мстили ей за недавнее, но уже невозвратное прошлое. Клавдия, например, и года не выжила на поселенье: ее травили, как злого волчонка, – пока не нашли ее в петле, на осине… Один раз, на каких-то дворовых именинах, очередная фаворитка князя сказала дерзость Муфтелю. Управляющий на пирушке подвыпил и осмелел.
– Не груби, красавица, не груби! не ссорься с Богданычем! – сказал он. – Сейчас ты у князя сильнее меня, – это что и говорить. Только вашей сестры у него сколько хочешь, а Муфтель один. И сегодня Муфтель перед тобою картуз гнет, а завтра Муфтель тебе спину дерет.
Девушка обиделась, расплакалась и пожаловалась князю. Но он расхохотался:
– Ха-ха-ха! Немец не врет, – хоть глуп, а правду говорит. Где я возьму другого такого? Помирись с ним, Серафима; не плюй в колодезь – пригодится воды напиться.
Волкоярская дворовая хроника сохранила всего лишь одно имя женщины, которая, даже выйдя из фавора, не утратила княжеской милости. Звали эту женщину Матреною, а прозывали Слобожанкою, потому что князь сманил ее – уже вдовую по первому мужу – из пригородной костромской слободы. Бабенка красивая, умная и пронырливая, Матрена поставила себя так хорошо, что, когда княжой интерес к ней охладел, князь сам спросил ее:
– Ты чувствуешь, что мне надоела?
– Чувствую, ваше сиятельство. Когда и куда прикажете убираться?
Князь купил Матрене дом в ближайшем уездном городе и выдал ее замуж за какого-то мещанина, наградив молодых недурным денежным приданым.
Отчаявшись найти себе поддержку в своем благом намерении воспитывать княжну, Муфтель, – в душе человек очень добрый и только на службе готовый хоть зубами загрызть всякого, кого князь прикажет, – решил:
– Взявшись за гуж, не говори, что не дюж; сделанного не разделывать стать, а надо доделывать до конца.
Вскоре пришлось ему подавать князю приходо-расходную ведомость за четверть года.
Муфтель, стоя среди княжего кабинета, монотонно вычитывал расходные рубрики. Князь, закрыв глаза, слушал его и время от времени кивал головою: так… верно… согласен… Он отлично знал, что Муфтель ничего не украдет и не поставит лишней копейки в ведомость, и эти четвертные отчеты были не более как формальностью. Но князь форму любил и соблюдал строго. Муфтель читал, читал, и… его осенило нежданное вдохновение. Тем же ровным голосом, как читал он о шитье новых ливрей и черкесок для дворни, о вывозе нечистот с хмельников заднего двора, он произнес:
– Гувернантке княжны Зинаиды Александровны, иностранке Амалии Густавсон, сто рублей…
– Что-о-о?!
Князь широко раскрыл глаза.
– Гувернантке княжны… – храбро начал было повторять Муфтель.
– Стой! не то!.. Разве у княжны есть гувернантка?
– Как же-с!
– Откуда же она взялась?
– По приказу вашего сиятельства.
– Я приказал?!
– Так точно-с.
– Я?!
– Без приказа вашего сиятельства у нас в Волкояре ничего не делается.