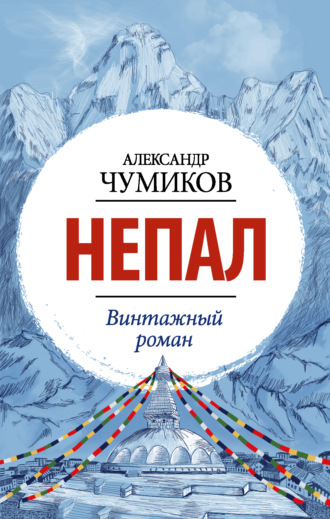
А. Н. Чумиков
Непал. Винтажный роман
– Да, мы не в курсе. Но с удовольствием узнаем это от тебя.
– Смотрите: Брахма – создатель, Шива – разрушитель, а Вишну – хранитель; все вместе они составляют тримурти, триединое божество.
– А есть ли главный среди них?
– Да. Первое место в триаде богов занимает Брахма. Он сотворитель мира и создатель Вселенной…
Разбираться с богами нам явно не хотелось. И мы вернули тему разговора к гуркам.
– Дип, а ты сам гурк? – весело спросил я и протянул руку, чтобы панибратски хлопнуть принца по плечу. Признаюсь, что к тому моменту мы уже прилично выпили. Дип ловко уклонился, подобрался и холодно заметил:
– Случись, что ты хлопнул бы гурка-воина по плечу, он разбил бы тебе голову. Или сломал челюсть. Голой рукой. Это в лучшем случае – если бы удержался от желания достать кукри-нож. Таковы традиции, включающие и запреты. Нельзя хлопать гурка по плечу, если ты не его близкий друг. Что касается меня, то я не гурк. Я будущий король гурков. Я Махараджадхираджа. Я Бог…
Мы затихли, не зная, продолжать ли беседу или закончить её от греха подальше. Но решили не сворачивать и сочли за лучшее как-то смягчить разговор и спустить его «на тормозах».
– Ну хорошо, про кукри-нож и про выносливость понятно. За неуместный жест я приношу извинения. А чем ещё гурки вооружены? Вряд ли они идут на неприятеля с одним ножом и голыми руками. И стрелять умеют, наверное?
Тут мы, что называется, попали на призовую тему: разговор с Дипом принял совершенно неожиданный оборот.
– Гурки, конечно, обучены обращаться с огнестрельным оружием. А сами-то вы стрелять умеете? – спросил принц.
Чувствуя какой-то подвох, я тем не менее ответил утвердительно. Да, я действительно умел стрелять, поскольку срочную службу проходил в специальном подразделении. Может, не в таком крутом, как у гурков, скажем, обращаться с кукри-ножом, да и с другими клинками нас не учили – разве что показывали, как действовать примкнутым к советскому автомату АКМ штык-ножом. Но вот пострелять пришлось вволю. И по горам побегать.
Дип накатил ещё вискаря и предложил:
– Так поехали, выпустим по паре магазинов…
Получался вечер рискованных сюрпризов. Не увёл бы он слишком далеко… Не очень понятно, как на такое предложение реагировать. Наверное, стоит вообще остановиться с «молодецкими играми». Может, отшутиться?
– Сейчас? Куда? В ваш колледж? Да уже поздно – учителя заругаются!
Но Дип ответил вполне серьёзно:
– Нет, не сейчас и не в колледж. Вы сколько ещё времени будете в Итоне?
– Три дня.
– Поедем послезавтра.
Мы продолжали тактику уклонения:
– Но студентам послезавтра ещё не положен short leave.
– А вам что до того? Мне всё положено. Петер, я тебе объясню, куда подъехать, а ты их привезёшь…
Никто ничего не забыл. Петер забрал нас через день и повёз. Куда конкретно, я сказать, естественно, не могу. И не из соображений секретности: просто мало ли куда тебя везут в незнакомой стране и местности, да ещё целый час. Но что приехали мы не в «чистое поле», а в оборудованное подземное стрельбище – это точно.
Дипа не было, но он появился минут через десять и снова нас удивил. Потому что прибыл на мотоцикле и в камуфляжной форме. Инструкторы стрельбища встретили принца как хорошего знакомого, и он провёл для нас мини-экскурсию:
– Оружия здесь целый арсенал. Смотрите, вот пистолеты, вот штурмовые и снайперские винтовки, вот автоматы и пулемёты.
– А станковые пулемёты и гранатомёты есть? – Я решил продолжать шутливый тон, а заодно продемонстрировать свою оружейную осведомлённость.
– Крупнокалиберные пулемёты и гранатометы, а также танки, артиллерийские орудия и ракеты здесь отсутствуют. Специально от меня прячут, – поддержал шутку принц. – Жаль! А то бы я разнёс всю эту их… – Принц произнёс незнакомое слово, которое на языке советских военных звучало бы, вероятно, как «херомантию».
Осмотрев стрельбище, мы увидели, что оно оборудовано комплектом стационарных (стоящих-падающих) и движущихся (идущих-бегущих-встающих-падающих) мишеней.
Дальше Дип выбрал пистолет, видимо, знакомый ему и раньше:
– Ну что, поехали? Как там у вас, у русских, говорят: давай-давай?
И «поехал», сбив подряд несколько мишеней и ни разу не промахнувшись. Затем из автомата положил весь бегущий ряд, и вновь ни один из «врагов» не «убежал». Мы наблюдали, поднимали вверх большой палец и поёживались.
– Из чего предпочитаете стрелять?
Я смутился и задумался. Принц явно палил хорошо, даже отлично. И я из того же британского или какого-то ещё иностранного оружия гарантированно пальнул бы хуже. Товарищ мой, а вместе с ним и Петер вообще участвовать в стрельбах отказались. Но деваться было некуда, и выход из положения я нашёл следующий:
– Может быть, есть российский автомат?
Дип довольно захохотал:
– Ка-лач-ни-коф? Конечно, есть. Есть даже пулемёт Ка-лач-ни-ков!
Ну, как говорится, назвался груздём – полезай в кузов. И я полез. Когда служил в Советской армии, то в моём подразделении не поразить мишени на «пятёрку» из автомата Калашникова – АК или ручного пулемёта – РПК считалось неприличным. Этот пулемёт вообще сказка. Там не как у автомата, где упираешься магазином в землю или придерживаешь ствольную коробку рукой: РПК можно поставить на ножки-сошки! Сорок патронов в «коробчатом» магазине и семьдесят пять – в «барабанном» вместо тридцати автоматных. Авось вспомнят руки-то, вспомнят! Закрепил я пулемёт на сошки и дал! Не сказать, что сильно отличился, но и не опростоволосился.
– Молодец, – говорит Дип. – Теперь давай из пистолета. Какой выбираешь?
Я вновь стал шурупить мозгами. Какой-какой. ПМ – пистолет Макарова, вот какой. Потому что и тут руки помнили, но совсем другое. Ну что «макаров»? Вот сидишь, допустим, в туалете на очке, простите, а на другом очке сидит враг. Стреляй, и, возможно, попадёшь, но не наверняка. Я и по мишеням из «макарова» мазал! До тех пор, пока не понял: здесь прицельной автоматной стрельбы, когда затаил дыхание, подвёл мушку под прицел и нажал курок, такого нет! Только интуитивная стрельба! Навёл – поймал мишень – выстрелил. Сразу, без вдохов-выдохов и передышки. Как? А как-то так. С боевыми ветеранами беседовал, они то же самое говорили: не думай и не мешкай, а просто лови момент и стреляй. Советам последовал и стал попадать нормально. Хоть с пояса! Не слишком прицельно, но человек не увернётся – куда-нибудь, да вмажу!
– Пистолет Макарова, – говорю Дипу.
– Ма-ка-ро-фа? – Инструктор стрельбища и принц переглянулись. – Нет такого. Об этом пистолете мы даже не слышали…
И тут я вспомнил про «стечкин». Не полагалось солдатам, но офицеры давали нам, солдатикам спецподразделения, пострелять из АПС – автоматического пистолета Стечкина. Читаю сегодня в источниках: и тяжёлый, и неудобный… А был и есть престижный пистолет. Фидель Кастро такому оружию радовался, Че Гевара гордился! Двадцать патронов, длинный ствол, приклад можно пристегнуть – в общем, современный «маузер», который в фильмах про Гражданскую войну показывают. Впрочем, внешне абсолютно на «маузер» не похож. Но подержался, нажал курок – и уже себя счастливым и непобедимым чувствуешь. Бьёт так, что душа восторгается, даже если не попал.
– А «стечкин»? – спрашиваю.
– «Стечкин»? Конечно! Это очень хороший пистолет!
Постреляли из «стечкина». Дип аж с двух рук, как в кино – и опять на «отлично», я – на «троечку», но не позорно.
Дальше принц опустошил ещё несколько обойм из разных стволов, а потом выдвинул предложение, которое, как у нас говорят, «поражало своей новизной и оригинальностью» и от которого «невозможно отказаться». Да мы, разгорячённые, возбуждённые и проголодавшиеся, и не отказывались. Вскоре, в буквальном смысле сложив оружие, оказались в нужном месте с едой и выпивкой. На этот раз уже не в демократичном пабе, а в среднего уровня помпезности ресторане. Сюрпризом было то, что за столиком нас ожидала девушка.
– Познакомьтесь, это Деви, – представил девушку Дип, – она тоже студентка в Итоне…
А-а-а, да-да, на прошлой встрече он упоминал Деви, рассказывающую про Советский Союз. И теперь предстояло раскусывать очередную головоломку! Ведь Королевский колледж в Итоне предназначен для мальчиков – мы это точно знали. Видя наше замешательство, Дип, на этот раз вместе с Петером, снова взялись за наше просвещение.
Получилось, что насчёт «мальчикового» колледжа мы не ошибались, просто не предполагали, что порядки в колледже, конечно, строгие, но не настолько, чтобы лишать воспитанников общения с женским полом. Причём общение получалось довольно регулярным. Девочки приезжали в колледж из соседних, «девчачьих» школ, чтобы посмотреть праздничные представления. Они могли даже участвовать в театральных постановках или играть на концертах, а до этого – общаться с мальчиками на репетициях. Ну и, наконец, этот самый shot leave, когда проводить время вместе можно было без опеки и посторонних глаз. То есть варианты для знакомства с противоположным полом существовали, и молодые люди ими активно пользовались.
Деви обладала характерной индийской внешностью – ну, как принцесса из тамошних фильмов, которых я в детстве насмотрелся дай бог. Почему я говорю «индийской», а не «непальской»? Да потому что не мог отличить индийца от непальца – точно так же, как, скажем, для чернокожих людей все белые на одно лицо и наоборот. К тому же индийских женщин я видел и раньше, а непальских – нет.
Как можно тише и осторожнее обратился к Дипу:
– Ты – принц, а Деви похожа на принцессу.
– Она пока не принцесса. Деви – дочь знатного королевского министра. Но она обязательно станет принцессой. И королевой!
При взгляде на молодую пару становилось ясно, что отношения между ними глубокие и серьёзные, по крайне мере на данный момент. Дип нежно держал Деви за руку и ласково смотрел на неё. Тон и стиль речи принца изменились: раньше он говорил громко, отрывисто, агрессивно; весь облик его источал браваду. Теперь беседовал тихо и дружелюбно, а по отношению к Деви даже нежно. Таким образом, всё обходилось без боевых кличей гурков, кукри-ножей и экстремальных предложений. Но это до поры до времени.
После обеда принц достал коробочку – как нам показалось, с каким-то табаком и тонкими бумажками – и начал свертывать сигарету. Деви не осталась безучастной, она мягко останавливала Дипа, приговаривая: «Не надо. Пожалуйста, не надо!»
Я обратился незаметно к Петеру:
– Чего это она? Ну, захотел человек покурить.
– Это марихуана. Она не хочет, чтобы принц курил марихуану.
Дип все же закурил. Не знаю, что больше повлияло, курение травки или изрядное количество «Джэк Дэниэлс», но принц начал всё больше заводиться. Деви с сожалением наблюдала за его поведением, но не проявляла желания уйти. У нас же, напротив, возникла мысль побыстрее смотаться, и мы стали как можно спокойнее и вежливее раскланиваться. Но поскольку не знали, как доехать из ресторана до гостиницы, решили сидеть до обещанного Дипом автомобиля.
Пока дожидались, случилось ещё кое-что. Как это частенько происходит у многих людей в хмельном состоянии, Дип начал обзванивать и приглашать на обед, перераставший в вечеринку, друзей – у него уже тогда имелся телефон сотовой связи. Один дружок прибыл до нашего ухода, это был голландец по имени Петрус. Мы пошутили, что, мол, теперь не ошибемся: наш гид Петер, а голландец Петрус, так что как ни произнеси, а кто-нибудь да откликнется.
Дип и Петрус отошли в сторону и о чём-то шептались. Я видел, что Петрус вынул из кармана что-то похожее на таблетки, они положили их в рот и запили водой. От дальнейших наблюдений, которые могли закончиться, как я чувствовал, чем угодно, а для нас, чужестранцев, точно не полезным, избавил подоспевший автомобиль.
Но и прощаясь, принц не унимался:
– Ты запомнил, что непальские гурки – лучшие воины?! Они умеют всё. Ты умеешь стоять на руках?
– Конечно, нет. А ты, да-да, я знаю, великолепно умеешь это делать. Не надо показывать, пожалуйста, я и так верю.
– Да, я могу! И покажу, чтобы вы не сомневались!
Дип, несмотря на явные признаки опьянения, легко встал на руки. Я бы, пожалуй, тоже смог, только если б удалось опереться ногами о стену рядом. Тем не менее, подумав, благоразумно воздержался: наши с принцем алкогольные кондиции, а вместе с ними и «стремления к подвигам» не совпадали. Не хватало только чего-нибудь сломать! Я наблюдал, выражая лицом восторг, и хлопал в ладоши. А принц лишь распалялся:
– А ты умеешь стоять на одной руке? – Дип в самом деле оторвал от земли правую руку и не упал. – А ты можешь удержаться вот так? – Принц перевел опирающуюся о пол ладонь в состояние кулака. Постояв несколько секунд на кулаке, Дип ловко встал на ноги. – Командир непобедимой армии гурков должен уметь всё, что умеют они. И даже больше.
Jay Mahakali, aayoo Gurkhali!..
Уже покинув Великобританию и вернувшись в СССР, мы узнали, что кронпринц Дип в соответствии с непальскими традициями официально объявлен божественным и священным. Вскоре отец, король Бир, забрал Дипа в Непал и сделал его главнокомандующим вооружёнными силами страны.
Часть II
Из рода Шакья

Пролог
Дорогая Маша
В промежутке между СССРовским и постсоветским временем на шоу-небосклоне восходила звезда Маши Распутиной. Яркая, белокурая, с достойными женскими формами и ошеломляющим голосом, певица масштабно покоряла разновозрастные аудитории страны, где внезапно стало мало хлеба, но много зрелищ. Среди самых популярных песен Маши значилась «Отпустите меня в Гималаи». И уж так она туда просилась – отпустите, и всё тут, сил нет!
Казалось бы, мне-то что? Пусть хоть на Северный полюс просится! Художественное, так сказать, самовыражение. Но песня почему-то залегла в глубине сознания, а когда я впервые попал в Гималаи и странствовал там целый месяц, песня почему-то стала проситься наружу, то и дело звучала в ушах. И я подумал, что, наверное, неспроста певица исполнила эту песню; видно, надоели пейзажи социалистической равнины; возможно, искренне верила, что в иных, гималайских краях существует взаправдашняя нирвана. Эх, Маша, Маша, – вздохнул я, заклеивая пластырем кровавый мозоль на ноге и сдирая с обожжённых солнцем ушей «панцирную» кожу. И решил написать ей письмо.
Чтобы содержание письма было понятным тем, кто сие произведение не слышал, а также тем, кто, страшно сказать, знать не знает и саму исполнительницу, расскажу о песне в двух словах. Маша поёт о том, что очень хочет в Гималаи. Мол, там она сможет раздеться догола, и никто к ней не пристанет. Чудесная рифма: «догола я» – «Гималаи», не правда ли? Ещё о том, что наши российские дураки до сих пор верят в большевиков и страдают от инфляции, а тамошние умники – нет. И что Маша не желает быть «дойной коровой», а также «безотказной тёлкой».
Короче говоря, написал письмо. Вот оно:
Многоуважаемая Маша!
Хотел бы сообщить Вам, что, вкладывая столько чувства в исполнение песни «Отпустите меня в Гималаи», Вы сильно заблуждаетесь. Дело в том, что значительная часть огромного массива Гималаев расположена на территории королевства Непал, где мне недавно пришлось провести около месяца. Страна эта не слишком большая, но численность населения значительна, а средняя его плотность достигает 122 человек на квадратный километр. Причем эти самые Гималаи до двух-трёх, а где-то и до четырёх тысяч метров над уровнем моря так распаханы и освоены (рисовые поля, пастбища для скота и проч.), что раздеться догола без последствий – а такое желание высказывается в песне – Вам никак не удастся: сей акт, бросив рубить бамбук и долбить камень, будут в массовом порядке созерцать любознательные аборигены вкупе с заморскими туристами. Последние, сами понимаете, воспользуются биноклями и подзорными трубами.
Правда, раздеться можно и в джунглях, но там Вы рискуете получить занозу, подвергнуться не всегда приятному вниманию обезьян или даже нападению диких зверей пострашнее, не исключая носорогов. Выше трёх-четырёх тысяч метров оголение тоже вряд ли разумно: холодно, знаете ли, снег-с, ветер-с.
Вы заблуждаетесь и в финансовом отношении – это когда поёте, что желаете покинуть страну, где всякие дураки страдают от инфляции. Поберегитесь, Маша! Наших тут уже много. И если мы в своём отечестве вслед за рублем сумели обеспечить инфляцию доллара, то неужто Вы полагаете, что падение курса маломощной непальской рупии нам не по зубам? Да как два пальца об асфальт!
А в большевиков тут, представьте, верят, причём с каждым днём всё сильнее. Характерно, что и вера эта крепнет прямо-таки по российской схеме. Так, после апрельской революции 90-го года права короля Бира были ограничены в пользу многопартийности и прочих демократических завоеваний. Но почему-то с приходом демократии кушать стало хватать не всем, а спустя ещё годик на стенах деревенских домиков появились серпы с молотками, а на парламентских выборах победили коммунисты.
Хочу также сказать Вам по секрету, что быть «безотказной тёлкой», а также «дойной коровой» в королевстве Непал весьма почётно! Не понимаете Вы, Маша, своего счастья: коровы и приравненные к ним тёлки являются в Непале священными животными, их здесь никто и пальцем не трогает. Да, петуху, козлу, барану и даже бычку на религиозном празднике вполне могут публично смахнуть голову, но тёлке – ни-ни!
Не уезжайте в Гималаи, дорогая Маша! Раздевайтесь где-нибудь в российском Приэльбрусье. Заранее прошу простить за некоторые вольности, но Вы как человек открытый и принципиальный должны меня понять: хотел как лучше…
Глава I
Пальцы
– Ну, если вы ждёте продолжения – будем продолжать. Под это дело, я думаю, можно выпить коньяка…
Морис достал бутылку «Мартеля», от одного вида и запаха которого у советского человека начинало учащённо биться сердце. Название «Мартель» я если и видел, то в кинофильмах или книгах зарубежных авторов.
Кстати, чекист никуда не делся. Он продолжал сидеть и слушать Мориса, правда, всё менее внимательно. Видно, поначалу он бдительно жаждал уловить что-нибудь антисоветское, да только откуда в нашем разговоре антисоветское? «Крупная рыба» не только не клевала, но в принципе отсутствовала, и чекист скучал. Даже слов «Франция», «Европа», «Советский Союз», способных насторожить зашифрованного члена группы, не произносилось: причём не из-за конспирации, а так, не ложились эти названия в наш разговор. При желании антисоветчиной можно было считать мой пиетет к французскому коньяку, который я никогда не пробовал. Но похоже, что «рыцарь плаща и кинжала» был в этом смысле тоже скрытым антисоветчиком, поскольку от употребления вкусного зелья не уклонялся. Отхлёбывая из пузатого фужера, я спросил Мориса:
– Неужели во время экспедиции вы тоже пили «Мартель»?
– Да, во время экспедиции мы пили коньяк – этот или другой, уже не помню. Хотя в Непале в то время продажа алкоголя находилась под запретом. Но у нас… Я знаю несколько русских выражений на эту тему. Вот: «У нас с собой было!» Так? Правильно? Но пили мы коньяк позже, гораздо позже. А пока…
Морис налил нам в статусные бокалы очередную, граммов по тридцать, дозу легендарного напитка. Сам сделал аккуратный глоточек. Мы тоже хотели смотреться вежливыми интеллигентами, знавшими о хороших манерах, но уж больно вкусно показалось. Не одним махом, конечно, тянули как могли, но за две-три-пять минут свои ёмкости осушали. Морис улыбался и подливал. Потом, видимо, хорошо всё понимая, предложил нам не стесняться и ухаживать друг за другом самостоятельно. Help yourself, как говорится. И продолжал рассказ:
– На определённом этапе всякая этническая и религиозная экзотика, о которой я вам уже говорил, закончилась и начался собственно альпинизм. То есть экзотика в книжном смысле не завершилась, но для нас она ограничивалась камнями, льдом, снегом, ветром, холодом. Со стихией приходилось постоянно бороться, поэтому она отвлекала от всего остального. Описать эту борьбу поэтически для меня невозможно, поэтому дальнейшее изложение будет глубоко прозаическим.
Штурмовым стал наш пятый лагерь на высоте 7500 метров, куда мы добрались вдвоём с Луи и сопровождающей нас двойкой шерпов…
Вспомнив поговорку о том, что любой солдат мечтает стать генералом, я спрашиваю Мориса:
– Наверное, шерпы тоже мечтали стать первыми покорителями Аннапурны?
Мэр смеётся и возражает:
– Не любой солдат мечтает стать генералом. В начале своей карьеры каждый шерп – просто носильщик, имеющий сверхзадачей зарабатывание денег. Да, он не прочь вырасти в сирдара: проводник больше получает и меньше несёт груза – в ряде случаев только свои вещи, поскольку ему доверена руководящая функция. Но не каждый портер и даже сирдар мечтает стать покорителем престижных вершин.
Вот вам случай из нашего путешествия. На высоте 7500 мы, сагибы (так непальцы называли участников экспедиции), вместе с шерпами с большим трудом, одышкой и перерывами расчистили от снега и льда площадку для палатки. Я уже весь погрузился в мысли о будущем восхождении и обратился с ними к сирдару Анг-Таркэ:
– Завтра мы с Луи собираемся взойти на вершину. Ты сирдар и самый опытный из шерпов. Мы будем рады взять тебя с собой.
– Спасибо, сэр, – осторожно ответил Анг-Таркэ и замолчал.
– Это будет наша общая победа, правда? Мы рассчитываем на тебя. Пойдёшь с нами?
– Я очень признателен, сэр, да. Но… мои ноги начинают мёрзнуть. И я предпочитаю вернуться в лагерь. Если можно…
Честно сказать, мы с Луи удивились, тем более что трудности, ожидающие впереди, никак не прогнозировались – пока это было пусть и высотное, со всеми вытекающими трудностями, но в целом обычное восхождение:
– Конечно, как хочешь…
– Спасибо!
– Вот так… с мечтами о «генеральском звании»!
Впрочем, термин «обычное» подходит сюда весьма условно. «Обычная» ночь прошла не просто без сна – ночь состояла из мучений: снег наваливал на палатку так, что, казалось, она нас раздавит. Мы ворочались и толкали стены палатки, пытаясь избавиться от удушающего снежного груза. А когда удавалось, полотнища палатки начинали хлопать, хрупкий домик трясло, и возникало ощущение, что нас вот-вот унесёт. Мы хватались за стойки палатки, вполне сознавая, что это никак не может помочь. Ну а что делать?
Когда наступил рассвет, осталось одно желание: скорее уйти из этого проклятого места. Надо бы попить чаю… Я оглядываюсь по сторонам: кто вскипятит чай? Смешно! Как будто вокруг десять человек. А нас только двое. И ни один из двоих не хочет заниматься чаем. Это и понятно: значительные усилия требуются даже на то, чтобы вытащить самого себя из спального мешка и достать оттуда же ботинки. Они стали твердыми как дерево. Я сумел всё-таки зашнуровать ботинки, а Луи просто плюнул и кое-как заправил шнурки внутрь. Надо чаю… А вообще-то зачем? Ни есть, ни пить не хочется. Обойдёмся без чая!
– Но без поклажи не обойтись. Что вы намеревались взять с собой на вершину?
– Вы спрашиваете про рюкзаки? Конечно, мы укладываем рюкзаки. Я помещаю туда тюбик сгущённого молока, несколько кусков нуги. Так всегда принято у восходителей. А как же? Надо обязательно закусить на вершине, иначе не хватит сил на спуск! Засовываю пару носков. Аптечку. Пробую кинокамеру. Она не работает! Какого ж чёрта я её сюда тащил? Хорошо, что хоть фотоаппарат не замёрз и действует. Рюкзаки в итоге получились лёгкими, потому что почти всю одежду мы напялили на себя. Естественно, пристегнули кошки. Вышли.
– А как обстояло с погодой?
– Погода? Погода была ясная, солнечная, чудесная, если бы не жуткий холод. Ну, так. Идём около семи часов. И оказываемся на вершине…
– Выглядит слишком просто. Пошли и пришли?
– Нормальный человек всё равно не поймёт – сколько ни рассказывай о простом или сложном в альпинизме. Ладно, если вам любопытно, буду объяснять «на пальцах». Хотя пальцев у меня нет.
Склон, по которому мы лезем, покрыт фирном. Знаете, что такое фирн?
– Да, знаю, это спрессованный снег – очень плотный, но ещё не лёд.
– Верно. Но фирн здесь присутствовал в виде корки, она то и дело проламывалась. И, провалившись, наши ноги барахтались в мягком пушистом снегу, что сильно замедляло движение. Первому идти заведомо труднее, поэтому мы периодически менялись: один прокладывает путь, а спутник идёт след в след.
На дикий холод я уже жаловался, и добавить нечего: он не оставлял нас и во время ходьбы. Луи поступал очень рационально: периодически снимал свой незашнурованный ботинок и разминал пальцы ног руками – его преследовала мысль о возможном обморожении. Потом, когда ботинки немного размякли при ходьбе, он всё-таки завязал эти злополучные шнурки.
А что происходило с сознанием! Каждый из нас погружался в свой собственный, как бы отделенный от других мир; мозги затуманивались. При этом я четко понимал, что «крыша» может конкретно поехать в любой момент, она уже частично поехала, и надо что-то с этим делать. Самое лучшее, на мой взгляд, считать: скажем, прикинуть в подёрнутом пеленой мозгу, сколько шагов осталось пройти до очередного ориентира, и считать их. Окажется меньше – чудесно. Получится больше – ну и что? Значит, прогноз расстояния в шагах придётся скорректировать. Или думать постоянно про те же шнурки! Вознести их в ранг самого важного предмета и мысленно развязывать, завязывать…
Звуки приглушены, уши словно заложены ватой. Когда я наблюдаю Луи со стороны – всё происходит в рамках реальности: вот я, здесь, а вот он, там. Но я и себя наблюдаю со стороны и анализирую собственные движения как движения другого человека. Я дышу, а другой человек слушает моё дыхание. Ловлюсь на том, что подсказываю что-то другому себе, и другой «я» выполняет. А потом он подсказывает мне, и первый «я» поступает так, как он сказал.
Тем не менее привыкаем и к этому, плетёмся потихоньку с передышками. Но тут сюрприз: перед нами встала скальная стена. Штурмовать её в лоб мы никак не можем: верёвку оставили в палатке, чтобы уменьшить вес, да и сил для серьёзного лазания нет. Значит, надо пытаться обойти стену, но как, мы пока не знаем. Останавливаемся и молча думаем. Внезапно Луи хватает меня за руку и хрипло спрашивает:
– Если я не пойду дальше и вернусь, что ты будешь делать?
Мне, конечно, не безразличны такие слова. Мне обидно. Но я для себя решение принял, и ничто не может его изменить.
– Я тебя понимаю, Луи, – говорю ему. – Ты можешь возвращаться, это твоё право. Но я пойду и один. Не переживай: ты сделал всё, что мог, и теперь не надо никаких жертв. Прощай…
Да, мы часто в подобных ситуациях говорим друг другу не «до свидания», а «прощай». Не потому, что не надеемся выжить. А потому, что готовы к любому раскладу событий. Думаю, что у Луи произошло какое-то временное помутнение, и он нуждался в эмоциональном толчке. Раздели я желание спускаться, мы бы так и сделали. Но я высказал другое намерение, и он сразу же, без колебаний поддержал его:
– Тогда я иду с тобой!
Мы начинаем искать обходные пути вокруг скалы и, к счастью, натыкаемся на кулуар. Вы знаете, что такое кулуар?
– Это большая щель в стене.
– Да. Это щель. Если большая, то можно лезть внутри неё, а когда маленькая – использовать для зацепок. Щель может быть и крутой, и не очень. В нашем случае кулуар оказался довольно широким и возможным для обычного, без технических приспособлений, прохождения и, что самое приятное – хотя такое слово здесь не слишком уместно, более пологим, чем сама стена, хотя всё равно приходилось задействовать при передвижении и ноги, и руки. Ногами и ледорубами бьём ступеньки в твёрдом снегу и обледенениях, а руками цепляемся за скальные выступы.
С кулуаром повезло: мы удачно прошли его и вышли на гребень. Финальный, предвершинный? Хотелось бы верить. Однако в горах видимость обманчива. Вот кажется, что пройдём метров сто по гребню и увидим вершину. Но… в гребне вдруг появляется непроходимый провал; обходим его, а там уже другой гребень, за ним – ещё один. Так может продолжаться сколько угодно и ничем, кроме потери сил, не закончиться. Но, обойдя очередного «жандарма» – так называется объёмное возвышение, «столб», мы вдруг видим прямо перед собой, в конце гребня, небольшую площадку. Но это не провал, поскольку выше… ничего нет!
Неужели вершина? Неужели не «обманка»? Озираясь по сторонам, мы приходим к выводу, что да, это вершина, 8075 метров. И не просто вершина. Это первый в мире восьмитысячник, покорённый человеком!
– Вы так намучились, что, наверное, и это восприняли «со стороны» и без «поэзии»?
У Мориса на лице возникает почти потусторонняя улыбка:
– Мы испытали восторг. Жаль, что очень короткий, может быть, минутный или меньше. Но это эйфорическое ощущение перебило все остальные. Восторг был глобальным и выходил далеко за пределы горы, снега, холода. Какой прекрасной теперь стала жизнь! Даже если она завершится прямо сейчас – не важно. Цель жизни достигнута, и ничего лучшего в ней быть не может.
Представьте себе лучший из ваших снов. На мгновения я погрузился в такой сон. Меня разбудил Луи. Жёсткими словами «надо спускаться». Да, конечно… Но стоп! Как я могу спускаться, если не сделаны снимки?..
Предложу читателю лирическое отступление о победных снимках. Все восходители на горы любого достоинства «заточены» на вершинные фото. А как же: надо зафиксировать такой важный шаг в своей жизни! А если это не восьмитысячник, а семь, шесть, пять и так далее тысяч метров? Разницы нет, хоть бугор или, как говорят альпинисты, «пупырь», потребовавший, тем не менее, значительных усилий, – а запечатлеть надо!
Другой вопрос, что ты будешь снимать? С серьёзной вершины чаще всего ничего не видно, кроме льда, снега, камней, самих восходителей. Аналогичный или даже лучший вид получится и существенно пониже. Но это не имеет значения для радостных покорителей пика! Мы там были – и баста!
Тем не менее фото на вершине далеко не всегда может быть свидетельством покорения горы: каменная россыпь, снег, туман и другие природные нюансы затрудняют распознавание именно этой вершины. Поэтому на высшей точке принято оставлять свидетельства своего пребывания. Если есть камни, из них сооружают домик-тур, а в него кладут специальную капсулу или простую консервную банку с запиской. Чтобы, когда «другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд», твою записку сняли и подтвердили: они туда точно забрались!
Можно затащить и попробовать закрепить на вершине фабричную или самодельную табличку из металла: специальными шлямбурными крюками она прибивается прямо к поверхности каменной плиты и сохраняется надолго. Если лёд, то забивается подобие трубы, штыря, а к ним привязываются флажки. Скажем, на Западной вершине Эльбруса долгое время стояла сварная металлическая пирамида – памятник событиям Великой Отечественной войны. А на Эвересте восходители искали принесённую когда-то треногу. Порой не находили – её заметало снегом, и тогда с «фотоотчётом» возникали некоторые проблемы. Помню, как на скальных первовосхождениях мы писали слова на камнях краской из баллончика…




