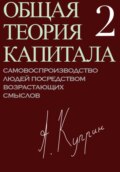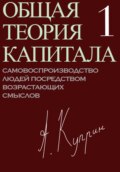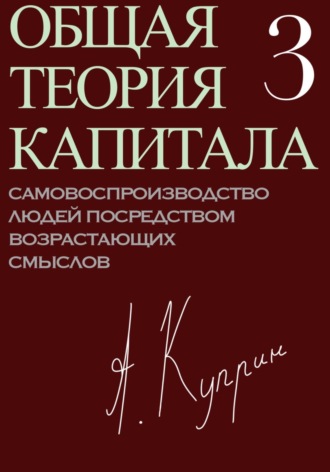
А. Куприн
Общая теория капитала. Самовоспроизводство людей посредством возрастающих смыслов. Часть третья
«Я называл буржуа рационалистом, чуждым героики. Чтобы настоять на своем или заставить нацию подчиниться своей воле, он может использовать только рационалистические, чуждые героике средства. Он может поражать воображение своими экономическими достижениями, он может отстаивать свою правоту, он может посулить деньги или пригрозить их попридержать, он может купить продажные услуги наемных убийц, политиков или журналистов. Но это все, что он может, причем политическая значимость всех этих мер сильно преувеличена. Ни жизненный опыт, ни традиции буржуа не делают его личность привлекательной. Даже гений бизнеса вне стен своего кабинета часто и слова никому поперек сказать не решится – ни у себя в гостиной, ни с трибуны. Зная за собой эту слабость, буржуа хочет, чтобы его оставили в покое, и сам не лезет в политику» (Шумпетер 2008, с. 519).
Персонализация стирает границу между функциями наемного рабочего и функциями капиталиста и приводит к складыванию новой социальной категории – посессоров, то есть предпринимателей, владеющих капиталом, который они сами используют. Посессоры постепенно становятся ведущей социальной категорией обычного общества, которая охватывает все общество и по отношению к которой работодатели и наемные работники становятся вспомогательными и отживающими категориями.
«Нам говорят, что мы живем в предпринимательском обществе, в котором каждый призван быть предпринимателем. Важно воплотить в себе энергию, ответственность и добродетель предпринимательского духа. Вы можете заняться бизнесом, запустить собственный стартап или организовать проект для бездомных. “Даже области, которые, как обычно считается, существуют вне сферы бизнеса и труда, – пишет Имре Семан, – такие как художественное и культурное производство, были колонизированы дискурсами предпринимательства. Предпринимательство существует в XXI веке как здравый способ ориентироваться в неизбежной, безупречной и, по-видимому, неизменной реальности глобального капитализма”» (Hardt and Negri 2017, p. 139).
Хотя предпринимательское общество возникает внутри глобального капитализма, его развитие приводит к отмиранию капитализма с его системой наемного труда. Множественное предпринимательство сбрасывает с себя капиталистическую оболочку, отмеченную печатью наживы. Хотя оно движется стремлением к доходу, оно не сводится к зарабатыванию прибыли, а является актом творчества, способом самовыражения, родственным другим видам художественной и культурной* деятельности. Это выражается и в том, что художественное, научное и всякое культурное* производство становятся в обычном обществе источниками идей и доходов для предпринимателей.
«Величайшим открытием человечества за последние 200 лет стало изобретение не конкретного устройства или инструмента, а создание самого научного процесса. После изобретения научного метода человечество немедленно создало тысячи других потрясающих вещей, которые не могли бы появиться в ином случае. Формулировка этого методического процесса постоянного изменения и улучшения стала в миллион раз полезнее изобретения любого отдельно взятого продукта, так как с момента, когда человечество начало пользоваться научным методом, были изобретены миллионы новых вещей. При правильной организации долгосрочного процесса в результате вы получите долгосрочные преимущества. В современную эпоху процессы важнее продуктов» (Келли 2017, с. 15).
Маркс и его последователи полагали, что пролетариат необходимо освободить от гнета буржуазии. Но XX век показал, что пролетариат не может освободиться от буржуазии, поскольку образует с ней неразрывное единство. Зачатком будущего оказываются не рабочие, а предприниматели. Итогом капиталистического процесса становится не «освобождение труда», а освобождение предпринимателей от пролетариата и буржуазии. Свобода предпринимательства становится условием для преодоления обоих «измов», и капитализма, и социализма. В обычном обществе предпринимателем является каждый. «Предприниматели всех стран, соединяйтесь!» – наверное, так мог бы звучать главный политический лозунг грядущих десятилетий.
3. Искусственный интеллект и идеализация производства
Слабый ИИ и распределенные сети предпринимателей
Индустриальный капитализм, символом которого был автомобильный конвейер Генри Форда, использовал рабочего лишь как материальную силу, рабочий был для него лишь механическим средством производства, то есть продолжением машины, и как вещественное продолжение машины он мог функционировать лишь находясь рядом с ней, то есть в рабочее время:
«Деятельность рабочего, сводящаяся к простой абстракции деятельности, всесторонне определяется и регулируется движением машин, а не наоборот. Наука, заставляющая неодушевленные члены системы машин посредством ее конструкции действовать целесообразно как автомат, не существует в сознании рабочего, а посредством машины воздействует на него как чуждая ему сила, как сила самой машины» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 46, ч. II, с. 204).
Однако эволюция смыслов в целом, и эволюция науки в частности, не останавливается на этом, она включает рабочего в систему машин не только как физическую, но и как интеллектуальную, и как аффективную силу. Постиндустриальный капитализм, или постфордизм, то есть переходный этап к обычному обществу, стремится использовать все стороны рабочей силы. Рабочий выступает для него как совокупность всех его способностей. Будучи интеллектуальным, идеальным расширением, «программным обеспечением» машины, работник может производительно функционировать находясь вдали от нее, то есть во внерабочее время:
«Грамши считал, что в фордизме интеллект остается вне производства. Только по окончании работы рабочий читает газету, идет в партийную ячейку, думает, общается. Однако, поскольку в постфордизме “жизнь разума” полностью включена в пространство / время производства, здесь превалирует существенная однородность. “Труд” и “не труд” развивают одинаковую производительность, основывающуюся на использовании основных человеческих способностей: языка, памяти, социальности, этических и эстетических наклонностей, абстрактного мышления и способности к обучению. С точки зрения того, “что” делается и “как” делается, нет никакой существенной разницы между занятостью и безработицей. Можно сказать, что безработица – это неоплачиваемая работа, а работа, в свою очередь, – оплачиваемая безработица. Можно утверждать с одинаковой основательностью, что сегодня человек никогда не прекращает работать, равно как и то, что он работает все меньше и меньше» (Вирно 2013, с. 131-132).
Система машин приходит к той точке, в которой человек уже не может быть лишь ее частью, он становится нужен в качестве ее субъекта. Средства деятельности участвуют в сложности деятельности, но не создают новую деятельность, не могут повышать ее сложность, и производство не может развиваться само по себе, независимо от человека, как автоматизированное общественное благо. Лишь человек может быть его субъектом, источником всякого изменения. Только субъект может вести деятельность и повышать ее сложность при участии средств производства. Чем выше сложность, тем больше нужны субъекты. В конечном счете оказывается, что для развития производства предпринимателем должен стать и рабочий, и буржуа.
Эволюция смыслов привела от инстинктов через практики к рассудку, или естественному интеллекту. Теперь она ведет к развитию искусственного интеллекта. Любая машинная обработка информации сама по себе уже является искусственным интеллектом (ИИ). На первом этапе ИИ есть лишь расширение естественного интеллекта человека. Это слабый ИИ. Но уже на этом первом этапе развитие ИИ ведет к размыванию границ между развитием обособленного искусственного интеллекта и расширением естественного интеллекта человека. Интеграция человека и слабого ИИ, даже если это всего лишь калькулятор в руке, ведет к размыванию границы между человеком и его средствами, между субъектом и смыслами: «Только сегодня, в постфордистскую эпоху, реальность рабочей силы целиком располагается на высоте собственного понятия. Только сегодня, таким образом, понятие рабочей силы не сводится (в отличие от времен Грамши) к тому или иному физическому, механическому умению, но на полных правах включает в себя “жизнь разума”» (Вирно 2013, с. 98). Поэтому «переприсвоение основного капитала» есть двусторонний процесс: с одной стороны, интеграция ИИ в деятельность человека, с другой стороны, интеграция человека в работу ИИ:
«… В то время как промышленные машины кристаллизуют прошлый интеллект в относительно фиксированной, статической форме, алгоритмы постоянно добавляют социальный интеллект к результатам прошлого, чтобы создать открытую, экспансивную динамику. Может показаться, что алгоритмическая машина сама по себе разумна, но на самом деле это не так; она лишь открыта для постоянных модификаций со стороны человеческого интеллекта. Чаще всего, когда мы говорим “умные машины”, мы на самом деле имеем в виду машины, которые способны постоянно поглощать человеческий интеллект. Вторая отличительная особенность, вытекающая из первой, заключается в том, что процессы присвоения стоимости, осуществляемые такими алгоритмами, также становятся все более открытыми и социальными, что стирает границы между работой и жизнью. Пользователями Google, например, движут интерес и удовольствие, но даже сами того не зная, своим интеллектом, вниманием и социальными связями они создают стоимость, которую можно уловить. Наконец, еще одно отличие производственных процессов, которые изучал Маркс, от такого рода производства стоимости состоит в том, что кооперация сегодня имеет тенденцию не навязываться начальником, а порождаться отношениями между потребителями-производителями» (Hardt and Negri 2017, p. 118-119).
Разделение корпораций на посессии и отмирание наемного труда ведут к соединению посессий с домохозяйствами, восстановлению старых добрых хозяйственных единиц, которые совмещают в себе и потребление, и товарное производство – потребителей-производителей, или просьюмеров, как их называл Элвин Тоффлер. Может показаться, что мы движемся в истории в обратную сторону – в сторону «нового средневековья». Обычай оказывается крайне опасным контрсмыслом, который грозит подорвать и национальные государства с их законами и системой всеобщего благосостояния, и мировой капитал, на системе которого основана вся современная промышленность.
Почему человечество не возвращается после капитализма к простому самовоспроизводству, при котором и численность населения, и душевой ВВП превращаются в горизонтали на графике 19 (см. главу 7). Почему кривая душевого ВВП отделяется от кривой населения? Не только потому, что в обычном обществе продолжают действовать контрнормы, свобода выбора и самовыражения. Но и потому, что мы вступаем в царство искусственного, в котором возрастание смыслов определяется не только численностью людей или мощностью их интеллекта, но и вычислительной мощностью машин, способностью смыслов к самовозрастанию. Люди и машины образуют сеть нового типа. Согласно сетевому эффекту Капицы – Меткалфа полезность сети пропорциональна квадрату численности пользователей сети. В обществе предпринимателей производительность растет потому, что здесь все больше субъектов, больше узлов в сетях производства и обращения. В капиталистической экономике действуют тысячи корпораций, в обычной экономике действуют миллионы посессоров.

Иллюстрация 24. Централизованная, децентрализованная и распределенная сети производителей
Действие эффекта Капицы – Меткалфа зависит не только от количества узлов, но и от типа сети. Централизованные и децентрализованные сети производителей, которые характерны для социализма и огосударствленного капитализма, имеют меньше связей между узлами, чем распределенные сети обычного общества. Еще одна причина, по которой две кривые расходятся, – та, что в распределенной экономике действуют эффекты, которые связаны не столько с количеством и качеством субъектов, сколько с количеством и качеством взаимодействий между ними. Когда население не растет, смыслы могут возрастать за счет роста количества и качества взаимодействий между субъектами. Эту связность обеспечивает система умных машин, слабый ИИ. Связность общества-сложности имеет даже большее значение для роста производительности, чем творческие способности отдельных индивидов. Это возвращает нас к идее Шумпетера о том, что предприниматель не изобретает новые смыслы, а создает новые комбинации смыслов:
«Заимствуя разные элементы у разных людей, учащиеся могут создавать “инновации” без “изобретений”, то есть путем рекомбинации вещей, скопированных из разных моделей, могут появляться новшества без того, чтобы сами люди самостоятельно придумывали новую технологию. Этот процесс оказывается решающим для понимания инноваций» (Henrich 2016, p. 216). «Итог: если вы хотите иметь крутые технологии, лучше быть общительным, чем умным» (Henrich 2016, p. 214).
Для роста душевого ВВП при стабильном населении нужен переход от (де)централизованной к распределенной экономике, в которой каждое индивидуальное рабочее место становится предприятием, а каждый работник – предпринимателем. Потенциал распределенной экономики ограничен количеством и качеством социальных связей, которые человек поддерживает с другими людьми. Согласно Робину Данбару, это число находится между 100 и 230, в среднем 150, и оно зависит от размера неокортекса. Это число оказывается верно и для приматов, и для технологически развитых обществ (см. Данбар 2012, с. 25-38).
«Отчего же возникает предел, описываемый числом Данбара? Возможно, вследствие перегрузки памяти (то бишь из-за неспособности запомнить более 150 человек либо проследить за всеми социальными связями в сообществе более 150 человек)? А может, проблема сложнее и предел возникает вследствие информационного ограничения, приводящего к падению качества личных связей при слишком большом их количестве? Мне кажется, второе более вероятно» (Данбар 2012, с. 32-33). «… Важно некое качество взаимоотношений, а не просто их число. Верхний предел численности группы устанавливается потому, что ограничено число связей, которые животное может поддерживать на нужном уровне сложности» (Данбар 2012, с. 35).
Думается, что расширение естественного интеллекта за счет интеллекта искусственного постепенно увеличивает число Данбара. Подтвердить или опровергнуть это предположение сможет теория или длительная практика.
Слабый ИИ развивается не как индивидуальный, а как общественный проект, его мощность производна не от интеллектуальных способностей его создателей, а от рациональных и аффективных сил всего общества. Развитие искусственного интеллекта – и как расширение естественного интеллекта, и как приближение физической системы машин к субъекту – ведет к тому, что инфраструктура становится более гибкой. Инфраструктура становится более адаптивной по отношению к индивидам и способной поддерживать более сложную, в том числе более дробную супраструктуру. Тайлер Коуэн пишет, что внедрение ИИ может привести к закату крупного бизнеса. Ведущие технологические компании в области ИИ, как правило, невелики по размерам, а крупные компании используют ИИ, чтобы стать меньше. Он перечисляет и другие последствия развития ИИ: снижение иммиграции, которая нужна крупным корпорациям, повышение роли и вознаграждений работников, приближение культуры производства к культуре партнерств или спортивных команд (Cowen 2023). При обычном порядке нет наемного труда, нет зарплаты и возможности зарабатывать на привлечении дешевой рабочей силы, поэтому становятся не нужны мигранты и миграция обуславливается лишь сравнительными возможностями предпринимательской деятельности.
Если персонализация ведет к индивидуализации, атомизации общества, то обобществление означает требование его большей социальности. Как это требование должно обеспечиваться? Рёпке писал, что рыночное хозяйство должно найти свое место внутри более широкого порядка, который не сводится к отношениям обмена, внутри «общества человеческого размера», в котором личность не подчинена «массе и концентрации».
«Нет ничего более вредного для здравого общего порядка, свойственного человеческой природе, чем две вещи: масса и концентрация. Индивидуальная ответственность и самостоятельность в правильном балансе с общностью, добрососедский дух и истинное гражданское чувство – все это предполагает, что общины, в которых мы живем, не превышают человеческого масштаба. Они возможны только в мелком или среднем масштабе, в среде, которую можно измерить, в условиях, не уничтожающих полностью и не заглушающих первичные формы человеческого существования, сохраняющиеся в наших деревнях и малых и средних городах» (Röpke 1960, p. 6-7).
Переход от массового к множественному типу производства ведет и к изменению в его пространственном размещении. Воссоединение рабочего места с домохозяйством есть необходимая предпосылка для сохранения семьи и восстановления рождаемости. Оно требует не только соединения рабочего и внерабочего времени, но и соединения места для работы с местом для жизни. Как отделение предприятий от домохозяйств вызвало к жизни урбанизацию и породило мегаполисы, так воссоединение рабочего места с домохозяйством вызывает возрождение малых городов, на первых порах в составе крупных агломераций. «Многое в этой возникающей цивилизации противоречит старой традиционной индустриальной цивилизации. Она является одновременно и высокотехнологичной, и антииндустриальной цивилизацией» (Тоффлер 1999, с. 33). Деурбанизация возвращает людей не в деревни, а в небольшие города по соседству с мегаполисами, поскольку они совмещают человеческий масштаб застройки с достаточной близостью и плотностью инфраструктуры. Корпорация проигрывает не отдаленной кибердеревне, а ближнему кибергородку. Высокотехнологичные корпорации уже сегодня по сути являются партнерствами посессоров, не привязанными к мегаполисам и агломерациям, но созданными на их инфраструктуре.
В процессе персонализации возникает не мировая деревня, а мировой городок. Превращение мира в глобальный городок означает возвращение от «холодного» к «теплому» обществу, от общности идей к общности места, и возрождение силы слухов и репутации, пусть даже слухи именуют «теориями заговоров». Важно, что слухи возрождают личностное начало общения. «До холодного общества было авторитарное общество, характерное для раннего капитализма, а после холодного общества, в постиндустриальном обществе, зарождается теплое, аффективно более удовлетворительное, даже эмпатическое общество» (Lane 1978, p. 454). Мировой городок с его теплым обществом подрывает саму основу господства – как в более богатых, так и в более бедных странах, как основанного на единоличной власти, так и на разделении власти между немногими партиями или корпорациями.
Индустриализация и идеализация
Причины перехода от расширенного к обычному самовоспроизводству не сводятся к прекращению роста населения. Точнее, такое прекращение есть лишь одно из многих проявлений перехода, вызываемого тем, что люди воспроизводят себя посредством все большей массы и множества смыслов. Другим проявлением является так называемая «деиндустриализация». Это неудачное понятие, поскольку оно предполагает сокращение промышленного производства. На самом же деле речь идет о сокращении доли занятых в промышленности при сохранении или даже росте объема промышленного производства. По сути, мы видим повторение того долгосрочного эффекта, который индустриализация в свое время оказала на сельское хозяйство: отток занятых и сохранение, а затем и увеличение объема сельскохозяйственного производства. Нынешний процесс является, с одной стороны, продолжением прежней индустриализации, поскольку он основан на дальнейшем развитии технологий, и вместе с тем он направляется теперь против промышленности. Мы называем этот процесс идеализацией. В процессе идеализации работники перемещаются из материального производства, сельского хозяйства и промышленности, в нематериальное, в производство услуг и нематериальных благ. Как и при индустриализации, переселении людей в города, мы имеем сочетание «толкающих» и «тянущих» сил. Переток занятости может быть связан и с тем, что в промышленности производительность растет быстрее, чем в нематериальном производстве, вытесняя работников, и с тем, что нематериальное производство пока более трудоемко, чем материальное, и поэтому предъявляет повышенный спрос на труд:
«Давно известно, что производительность в производственном секторе обычно растет быстрее, чем в сфере услуг, поскольку автоматизация и трудосберегающее оборудование, как правило, более полезны для промышленных производителей. С течением времени это приводит к тому, что трудоемкие услуги становятся дороже по сравнению с промышленными товарами … Нематериальные инвестиции, с другой стороны, гораздо больше зависят от труда. Чтобы сделать дизайн, нужно заплатить дизайнерам. R&D предполагает оплату труда ученых. Программное обеспечение предполагает оплату разработчиков. Поэтому мы ожидаем, что со временем нематериальные инвестиционные расходы будут постепенно расти по сравнению с материальными» (Haskel and Westlake 2018, p. 28).
Если работники вытесняются из промышленности вследствие роста там производительности, то верно и обратное: рост производительности в нематериальном производстве позволяет наращивать объем производства в промышленности. Подобно тому, как индустриализация вела к увеличению занятости в городах и сокращению занятости на селе и при этом к росту промышленной, а поэтому и аграрной производительности, так идеализация ведет к росту производительности в нематериальном секторе и поэтому в промышленности, к росту занятости в производстве идей и поэтому к сокращению занятости в производстве вещей.
В 1950-х – 1960-х годах в США, Западной Европе, СССР доля занятых в промышленности составляла более 30%. К началу 2020-х годов она сократилась: в США – до 8%, в Европе – до 15%, в России – до 27%. Можно было бы связать эти процессы с выносом промышленности в третьи страны, но в самих США, Европе и России объем промышленного производства за этот период не снизился, хотя изменилась структура по подотраслям. Более сложные процессы в этот период были характерны для Китая и Индии, в которых идеализация накладывалась на индустриализацию. Тем не менее, к началу 2020-х годов в индийской промышленности работало 25%, в китайской – 29% от общей численности занятых, то есть также менее 30%. Можно представить себе гипотетическую ситуацию, при которой в результате идеализации в материальном производстве будет занято 5-10% от общей численности занятых, а основная часть будет занята в нематериальном производстве. Эта тенденция касается и активов. Из 1 триллиона долларов стоимости Apple в 2018 году лишь 9% составляли материальные активы.
По мере идеализации естественный и искусственный интеллекты становятся факторами производства, а само производство превращается в интеллектуальное. При этом идеализация не является этапом промышленной революции, это не «четвертая промышленная революция». Она представляет собой процесс, который указывает на завершение всяких технологических и социальных революций. Поскольку идеализация производства касается не вещей, не системы машин, а самого человека, его практик и интеллекта, она не может происходить скачками. Технологии являются лишь одной стороной смыслов, их развитие не может отрываться от развития организаций и психологий. Это касается и слабого ИИ, и биотехнологий, которые увязаны с человеческой психикой и этическими нормами. Нет смысла в ускоренном развитии технологий, оторванном от развития общества-сложности в целом. Идеализация – или иначе ее можно было бы назвать интеллектуализацией – это постепенный, эволюционный процесс. В его ходе рабочее место, или основной капитал, превращается из набора средств производства в процесс деятельности, неотделимый от работника, производящего – наверное, даже не продукты, а все больше процессы – посредством языка технологий:
«Современная техника – это не просто набор более или менее самостоятельных средств производства. Скорее, она становится открытым языком для создания структур и функций в экономике. Медленно, с темпом, измеряемым десятилетиями, мы переходим от технологий, дающих фиксированный физический результат, к технологиям, главная особенность которых заключается в том, что их можно бесконечно комбинировать и настраивать для новых целей. Некогда технология была средством производства, теперь она становится процессом превращения (chemistry)» (Arthur 2011, p. 25).
Чтобы понять глубинную сущность идеализации, нужно ответить себе на вопрос: инвестиции в искусственный интеллект – это вложения в реальный или в человеческий капитал? Превращение капитала в технологию, то есть овеществленное знание, означает, что разрыв между трудом, как знанием в действии, и основным капиталом, как вещественным воплощением знаний, сокращается. Человек и его знания во все большей мере сами становятся основным капиталом.
Продуктом материального производства являются вещи, а продуктом нематериального производства являются сам человек, его эмоции и идеи. Идеализация ставит вопрос о том, как измерять результаты производства, ведь старые методы, разработанные для промышленного производства, для производства вещей, перестают работать, а новые методы, которые были бы пригодны для нематериального производства, производства идей, еще не созданы:
«Если экономисту предложить игру на ассоциации, то первое, что придет ему на ум при слове “производительность” будет “загадка”. Я уже упоминала про известное высказывание, которое в 1987 году сделал Роберт Солоу про загадку производительности: “Эпоха компьютеров видна повсюду, кроме цифр производительности”. … Так почему с производительностью связано столько парадоксов? Дело в том, что с каждым годом экономика все меньше состоит из материальных объектов. И для ВВП это серьезное затруднение. Измерить экономический выпуск сравнительно несложно, если для этого достаточно учесть количество автомобилей, холодильников, гвоздей или пищевых полуфабрикатов, выходящих с конвейера. Но как измерить выпуск, связанный с трудом медсестер, бухгалтеров, специалистов по садово-парковому дизайну, музыкантов, разработчиков программного обеспечения, санитаров и т. п.? Единственный способ – посчитать их численность и численность клиентов, пользующихся их услугами, но тогда полностью ускользает качество услуг, а оно имеет огромное значение» (Койл 2016, с. 151).
Из разницы между вещами и идеями вытекает разница между рутинной и новаторской деятельностью, нормами и контрнормами. Если производство вещей и услуг можно свести к рутине, к автоматической штамповке в соответствии с алгоритмом, то производство идей и эмоций плохо поддается автоматизации. Многотомные романы и сериалы, сделанные «под копирку», даже если они пользуются спросом, являются не признаком развития, а признаком застоя. Можно делать фильмы с использованием ИИ, но слабый ИИ не может дать новых идей и эмоций. Он лишь повторяет одни и те же идеи и эмоции, расширяет рациональный и эмоциональный человеческий интеллект, но не может заменить его. Как и во времена Протагора, человек остается источником всего нового и повышения сложности смыслов. В этом состоит ответ на проблему, поставленную в свое время Шумпетером: почему и до каких пор предпринимательство сохранит свою актуальность, несмотря на то, что оно же само ведет к «рутинизации» контрнорм:
«Дело в том, что сегодня гораздо проще, чем когда-либо прежде, делать вещи, выходящие за рамки привычного, – новаторство само превращается в рутину. Технологический прогресс все больше становится делом коллективов высококвалифицированных специалистов, которые выдают то, что требуется, и заставляют это нечто работать предсказуемым образом. Романтика прежних коммерческих авантюр отходит в прошлое, поскольку многое из того, что прежде могло дать лишь гениальное озарение, сегодня можно получить в результате строгих расчетов» (Шумпетер 2008, с. 512-513). «Прогресс можно механизировать точно так же, как и управление в стационарной экономике, и эта механизация прогресса может оказать на предпринимательство и капиталистическое общество влияние не менее сильное, чем остановка экономического прогресса» (Шумпетер 2008, с. 511-512).
Если речь идет о массовом производстве вещей и услуг, то его можно свести к алгоритму. Но если речь идет о производстве новых идей и эмоций, уникальных вещей, то это требует предпринимательства, расчета, а, как мы показали в главе 6, расчет не является чем-то, что можно рутинизировать или механизировать. Предприниматель воплощает не только полезность, но и долг, и мечту. По своей сути расчет есть превращение неопределенности в риск, это процесс превращения случайности в вероятность, и поэтому расчет сам является случайным, то есть творческим, процессом. Идея есть замысел и вместе с тем случайный продукт творчества.
«Трудность управления творчеством заключается в его неизбежной случайности. Творческие акты либо просто случаются, либо просто не случаются. Их можно “заманить” настойчивостью или энтузиазмом, но не заставить. Как писал Макс Вебер, “идеи приходят к нам тогда, когда это угодно им, а не тогда, когда это угодно нам” [М. Вебер «Наука как призвание»]. Неисчислимость творчества делает его двойственным. Это одновременно и желательный ресурс, и угрожающий потенциал. С опытом его случайности и моральной двусмысленности приходит потребность направлять его, использовать его продуктивную и ограничивать его деструктивную способность. С одной стороны, творчество должно быть мобилизовано и высвобождено; с другой стороны, его нужно регулировать и обуздывать, направлять на конкретные проблемы и держать в стороне от других. Его освобождение и его одомашнивание неразрывно переплетены. Мечта о тотальном контроле обречена на разочарование, потому что творчество невозможно без элемента анархической свободы и стремления к разрушению. Режимы контроля меняются, но попытки взять творчество под контроль остаются. Диагноз и рецепт здесь совпадают. Творчество – это, во-первых, то, чем обладает каждый, антропологическая константа, человеческая способность или сила. Это также то, чем должен обладать каждый, норма. Это, в-третьих, то, чем никогда нельзя полностью владеть, недостижимая цель. Наконец, это то, что можно повысить систематическим обучением, это приобретаемая компетенция» (Bröckling 2015, p. 102).