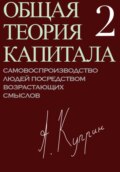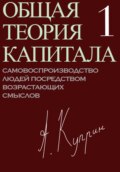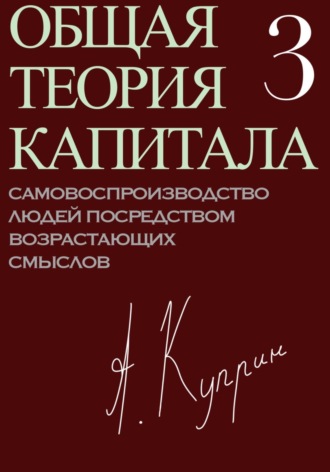
А. Куприн
Общая теория капитала. Самовоспроизводство людей посредством возрастающих смыслов. Часть третья
Завершение интересного промежутка и персонализация капитала
Скотт Пэйдж в лекционном курсе «Понимание сложности» называет четыре переменные, посредством которых можно описать поведение системы (Page 2009, p. 10-12):
● разнообразие: количество видов элементов в системе;
● связность: количество связей между элементами;
● взаимозависимость: зависимость элементов друг от друга;
● адаптация и обучение: «интеллект» элементов, их способность реагировать на воздействия для восстановления баланса.
Эти четыре переменные могут принимать низкие, средние и высокие значения, и в зависимости от значений образуются три типа систем: системы стабильные, сложные и хаотические (они же регулярные). Сложная система – это интересное промежуточное состояние между стабильной и хаотической (или регулярной) системами. Действительно, если разнообразие, связность, взаимозависимость и адаптация находятся на низком уровне, то мы имеем стабильную систему. Если же эти переменные находятся на высоком уровне, то мы имеем систему хаотическую (или регулярную). Сложность образуется посередине, она формируется при некотором «среднем» значении четырех переменных. «Почти во всех играх, изучаемых в теории игр, участвуют либо два игрока, либо бесконечное количество игроков, в результате чего теория игр склонна игнорировать интересные промежуточные моменты, в которых возникает сложность» (Page 2009, p. 11).
Таким образом, при возрастании значений переменных эволюция идет от стабильного состояния через сложное к регулярному. В этом механизм превращения простого самовоспроизводства в расширенное, а расширенного – в обычное. Традиционное общество стабильно. Быстрый рост населения и смыслов, происходящий в ходе коммерческой и промышленной революций, приводит к образованию общества-системы. Общество-система есть начало сложного общества. Поскольку в нем еще относительно немного субъектов (правительства, корпорации, массы), постольку оно еще сохраняет характер простоты. Персонализация есть резкое увеличение числа активных субъектов, она делает общество еще более сложным. Чем более сложным становится обычное общество, чем больше в нем видов игроков и стратегий, тем выше вероятность, что оно станет регулярным, но вместе с тем растет и риск хаоса.
Очень сложная система может быть как регулярной, так и хаотичной. Множество случайных событий проявляет регулярность, если события повторяются, если они образуют норму. Если субъектов и связей между ними становится очень много, а зависимость между субъектами становится очень сильной и сами субъекты очень адаптивными (умными), то они начинают двигаться в унисон, не могут «переиграть» друг друга, сложная система превращается в статистически регулярную. Однако если события вовсе не повторяются, если общие нормы отсутствуют, то растет риск «свалиться» в хаос – вот почему обычай, или его отсутствие, становится самым опасным контрсмыслом. Кеннет Боулдинг в свое время писал: «Самое широкое возможное определение системы состоит в том, что это “все, что не является хаосом”. Мы могли бы перевернуть определение и сказать, что система – это любая структура, которая демонстрирует порядок и закономерность» (Boulding 1985, p. 9). Если общество-культура становится настолько сложным, что уже не демонстрирует порядка и закономерности, то оно не является системой, хотя при этом может не быть и хаосом: его видимая случайность может быть пересечением закономерностей.
Так трансформируется общество по мере возрастания смыслов: общество стабильное, или традиционное, превращается в сложное, или коммерческое, а затем в регулярно-хаотическое, или предпринимательское. Эта трансформация выражается в переходе от традиционных частного владения и политической собственности к капиталистическим частной и государственной собственности, а затем к общественной собственности и индивидуальному владению. Минуя интересный промежуток капитализма, социально-культурный порядок возвращается от частной собственности и номинального капитала к общим и индивидуальным средствам производства – но не к тем их прежним формам, которые предшествовали расширенному самовоспроизводству.
В традиционном обществе земля была той общей инфраструктурой для аграрного производства, которая находилась в политической собственности, а орудия труда и скот принадлежали непосредственным производителям на праве владения. Для простого производства были характерны стабильное население, низкое строение смыслов и малый масштаб производства: общины оставались по существу неизменными и по числу людей, и по их практикам, необходимые средства деятельности сводились к земле и простым ручным орудиям труда, а совокупное минимальное действие – к самообеспечению на уровне семьи или небольшой общины. И средства деятельности, и социально-культурный порядок имеют в традиционном обществе человеческий масштаб, они соразмерны человеку, его деятельной силе, могут быть использованы индивидом или семьей, и образуют частное владение. Там же, где совместные потребности требуют коллективных действий и коллективных благ, например, объектов ирригации, они ведут к образованию политической собственности путем изъятия излишков у семей и общин и создания временных трудовых коллективов. Деревенская рутина не требует сложных смыслов, а всплески неопределенности преодолеваются коллективными действиями, мероприятиями государства, или просто ведут к коллапсу общины.
В результате коммерческой и промышленной революций крестьяне лишились средств производства и доступа к земле, переселились в города и стали наемными рабочими. Переход к расширенному производству предполагает рост населения, рост масштабов производства и повышение строения капитала: демографический взрыв, образование единой системы производства в масштабах нации и мира, основной капитал в виде крупных комплексов машин и механизмов. В коммерческом обществе и средства деятельности, и порядок выходят за пределы человека и масштаба его деятельной силы. Частный капитал растет, возвышаясь над человеком как система, как величественное и недосягаемое сооружение. Предприятия отделяются от домохозяйств, укрупнение средств производства и разделение порядка требуют укрупнения трудовых коллективов и ведут к укрупнению капиталистической и социалистической собственности, создаваемых за счет присвоения и вложения прибыли, накопления капитала. Сложность смыслов быстро растет, неопределенность повышается, она преодолевается за счет превращения прибыли в процент на капитал и нового возрастания капитала, создающего новую неопределенность.
Наконец, переход к обычному производству связан со стабилизацией населения, но продолжением процессов увеличения масштабов производства и повышения строения капитала: население планеты прекращает расти, но совокупное минимальное действие растет, захватывая все больше жителей Земли в процесс национального и глобального разделения труда, порядка и знаний. При постоянном населении растет число активных субъектов, массы и корпорации разделяются на множество новых самостоятельных деятелей. Прирост сложности средств производства отстает от прироста сложности порядка, рост процента отстает от предпринимательского дохода, владение капиталом само по себе перестает быть главным условием его возрастания. По мере того, как исчезает дополнительный пролетариат, инвестиции теряют свой смысл для буржуазии, поскольку они приносят все меньшую прибыль. Когда сокращаются инвестиционные возможности, то есть перманентное относительное перенаселение сменяется перманентным относительным перенакоплением, инвестиции оказываются нужны лишь самим наемным работникам, и им приходится стать капиталистами, чтобы инвестировать в собственное дело – созданное с нуля или внутри существующей корпорации.
При постоянном населении инвестиции ведут к снижению нормы прибыли, а снижение нормы прибыли ведет к уменьшению корпоративных инвестиций и их замещению инвестициями посессоров и государства – не ради прибыли, а ради доходов. Механизм капиталистического накопления трансформируется в механизм личных и общественных доходов. Разделение реального капитала (то есть производства) и разделение прибылей от него приходят на смену разделению номинального капитала (то есть акций) и доходов на капитал. При этом и средства деятельности, и порядок вновь возвращаются к масштабу человека, его деятельной силы. Рабочие места персонализируются, превращаясь в предприятия размером в одно рабочее место. Тем самым создаются предпосылки для воссоединения индивидуальных предприятий и владеющих ими домохозяйств. Персонализация супраструктуры не отменяет потребности в инфраструктуре, в производственных благах совместного и общего пользования. Каким образом будет создаваться и использоваться эта инфраструктура, как будут организованы коллективные действия посессоров, покажет практика. Это может происходить как посредством коммерческих организаций и рыночных трансакций, так и посредством институтов и мер государства или путем преобразования корпораций с их инфраструктурой в некоммерческие организации, не имеющие цели извлечения прибыли.
Традиционное общество прорастает сквозь коммерческое и становится обычным обществом. Владение и основанная на нем самозанятость – это исходный и конечный пункты развития капиталистического производства. В качестве исходного пункта самообеспечение – это основанное на частном и общинном владении и политической собственности натуральное хозяйство, в котором деятельность каждого человека ограничена рамками примитивного разделения труда, семейной и общинной кооперации. В качестве конечного пункта самозанятость – это основанное на индивидуальном владении и общественных благах роботизированное производство, при котором каждый человек ведет свою деятельность в рамках мировой системы разделения и сложения труда, знаний и порядка.
2. Производство обычного порядка
Модель обычного производства и минимизация капитала
При переходе к обычному самовоспроизводству общество выходит из того промежутка, внутри которого норма прибыли являлась центральным мотивом всего процесса производства. Норма прибыли не просто становится бесполезной, она прямо тормозит развитие технологий, поскольку в условиях стабильного населения развитие технологий, инвестиции в систему машин, ведут к неприемлемому снижению нормы прибыли, в целом к неспособности продолжать процесс производства на основе наемного труда:
«За пределами известного пункта развитие производительных сил становится для капитала преградой; следовательно, – капиталистические отношения становятся преградой для развития производительных сил труда. Достигнув этого пункта, капитал, т. е. наемный труд, вступает в такое же отношение к развитию общественного богатства и производительных сил, в каком оказались цеховой строй, крепостничество, рабство, и как оковы сбрасывается с необходимостью» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 46, ч. II, с. 263).
В обычном обществе потребители максимизируют не полезность, а смысл, то есть совокупность полезности, репутации и досуга. Производители максимизируют не прибыль (прибавочную стоимость), а доход (добавленную стоимость). Иными словами, теперь водораздел проходит не между классом рабочих, которые стремятся максимизировать заработную плату v, и классом капиталистов, которые стремятся максимизировать прибавочную стоимость m, а внутри одного и того же класса, класса посессоров, каждый из которых старается максимизировать чистую добавленную стоимость Y = v + m. Поскольку Y частично используется в качестве источника для безусловного дохода, который для данного периода времени можно принять за постоянный, то посессоры соревнуются за предпринимательский доход.
Изменения в мотивах производства ведут к изменениям в инвестициях. Когда сберегатель не желает давать взаймы, поскольку предпочитает вкладывать деньги в собственное дело (а в обычном производстве оно есть у большинства), а предприниматель не желает брать взаймы, поскольку он не уверен, что в условиях дефицита кадров на рынке сможет получить такую норму прибыли, которая покроет норму процента, то круг возможностей для капиталистических инвестиций, требующих найма рабочей силы, сужается. Характер инвестиций в производство меняется: основным их источником становятся не номинальные капиталисты (то есть инвестиционный сектор), а домохозяйства (потребительский сектор), государство и некоммерческие организации (общественный сектор). Инвестиции попадают в производство либо вместе с человеческим капиталом, то есть как инвестиции посессоров, либо вместе с социальным капиталом, то есть как инвестиции государства и некоммерческих организаций.

Иллюстрация 23. Стартовая модель обычного производства
В главе 5 мы показали, что реальный капитал (если свести его к совокупности средств производства) можно условно разделить на две части – необходимую и прибавочную. Необходимый капитал позволяет вести производство, но не позволяет получить процент на капитал. Прибавочный капитал необходим для получения процента. В отличие от капиталиста, посессору не нужен прибавочный капитал, который приносит процент, ведь накопление номинального капитала не является для него значимым мотивом деятельности. Если он может привлечь беспроцентные инвестиции (свои или общественные), то ему нужен лишь необходимый капитал и приносимые им предпринимательский доход и возможность досуга.
В этом состоит коренное отличие посессора от капиталистического предпринимателя, для которого минимальный размер его индивидуального капитала должен быть достаточным, чтобы нанять требуемое количество рабочих и обеспечить их не только необходимыми, но и прибавочными средствами производства, чтобы выплатить процент за кредит:
«С развитием капиталистического способа производства возрастает минимальный размер индивидуального капитала, который требуется для ведения дела при нормальных условиях. Поэтому сравнительно мелкие капиталы устремляются в такие сферы производства, которыми крупная промышленность овладевает лишь спорадически или не вполне. Конкуренция свирепствует здесь прямо пропорционально числу и обратно пропорционально величине соперничающих капиталов. Она всегда кончается гибелью многих мелких капиталистов, капиталы которых отчасти переходят в руки победителя, отчасти погибают. Кроме того, вместе с капиталистическим производством развивается совершенно новая сила – кредит; вначале он потаенно прокрадывается как скромный пособник накопления, посредством невидимых нитей стягивает в руки индивидуальных или ассоциированных капиталистов денежные средства, большими или меньшими массами рассеянные по поверхности общества; но вскоре он становится новым и страшным орудием в конкурентной борьбе и, в конце концов, превращается в колоссальный социальный механизм для централизации капиталов» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 640).
Тенденцию, вследствие которой реальный капитал по своей величине приближается к необходимому капиталу, то есть перестает приносить процент, мы называем минимизацией капитала. Тенденция к понижению процента и к превращению дохода на капитал из процента, основанного на риске, в участие в прибыли, основанное на неопределенности, часто недооценивается при проработке будущих сценариев самовоспроизводства. Рыночная и политическая сила владельцев капитала, которой они до поры до времени обладают, вытекает не только из относительной нехватки капитала, но и из относительной слабости рынков и низкого уровня доверия, характерных для капитализма, из-за чего деловые и финансовые операции требуют высоких трансакционных издержек. Развитие технологий общения и повышение социальности общества приведут, думается, к тому, что согласование интересов тысяч посессоров будет обходиться дешевле, чем в свое время обходилось согласование интересов «пары капиталистов»:
«… При изобилии капитала и прекращении роста населения мы увидим общества, в которых процесс найма факторов производства будет перевернут, то есть труд будет нанимать капитал, а не наоборот. Этот переворот до сих пор не произошел не только из-за более сильной переговорной позиции владельцев капитала (то есть относительной нехватки капитала в сравнении с рабочей силой), но также из-за проблем координации между рабочими. Легче согласовать интересы пары капиталистов, чем тысяч рабочих, – факт, отмеченный уже Адамом Смитом. Другое препятствие – отсутствие у работников имущества, достаточного для обеспечения займов, из-за чего капиталисты опасаются ссужать им деньги. Более того, демократически организованная компания по определению не будет находиться под контролем поставщиков капитала, что является еще одной причиной, по которой капиталисты не будут торопиться ссужать им свои средства. Тем не менее, несмотря на все эти проблемы, нельзя исключить, что в течение XXI века соотношение сил между трудом и капиталом может измениться (по мере того как капитала накапливается все больше, а население мира перестает расти) и может появиться демократически организованное рабочее место как альтернатива либеральному и политическому капитализму. Оно останется капиталистическим в том смысле, что сохранится частная собственность на средства производства, но наемного труда при этом не будет. Если исходить из общепринятого определения капитализма, которое требует наличия и того и другого, то уже не очевидно, что такое общество можно будет назвать “капиталистическим”» (Миланович 2022, с. 339).
Минимизация капитала проявляет себя различным образом для супраструктуры, состоящей из делимых средств производства, и для инфраструктуры, которая состоит из неделимых средств производства. Делимые средства производства, входящие в состав рабочего места посессора, постепенно упрощаются относительно его деятельной силы. Персональный компьютер, мобильный телефон, транспорт, инструменты постепенно становятся более доступными и могут быть приобретены посессором за счет собственных средств, сокращая потребность в кредите. Неделимые средства производства, входящие в инфраструктуру, напротив, усложняются относительно деятельной силы посессоров. Частные и общественные инвестиции в инфраструктуру ведут к снижению нормы прибыли от нее, инфраструктура очень медленно и постепенно – становится некоммерческим активом, не приносящим прибыли.
При инвестициях в супраструктуру минимизация капитала состоит не в том, что уменьшается стоимость индивидуального рабочего места, а в том, что посессор инвестирует ровно столько, чтобы воспроизвести свое, и только свое, индивидуальное, рабочее место. С точки зрения посессора как обычного предпринимателя, его капитал должен быть достаточным для того, чтобы он мог приобрести необходимые ему самому средства производства. Таким образом, персонализация означает практическую минимизацию капитала: величина капитала, которая требуется для ведения дела, сокращается относительно той величины, которая требовалась при капитализме.
Поскольку посессору, в отличие от капиталиста, нужно воспроизводить лишь свою деятельную силу, и перед ним не стоит задача накапливать капитал сверх необходимого для него самого минимума и нанимать рабочих, постольку ему не нужен прибавочный капитал, для него капитал равен необходимому капиталу. Это означает, что постепенно прекращается действие механизма, на котором основывались накопление и концентрация капитала. Централизация капитала не происходит в обычном обществе и при самой оживленной конкуренции, поскольку победитель не может нанять разорившихся посессоров в качестве рабочих, он может лишь заместить их машинами. Посессоры накапливают капитал лишь для того, чтобы нанимать больше роботов.
Откуда посессор может привлекать инвестиции? Самообеспечение капиталом за счет предпринимательского дохода является первым из трех источников наряду с частным кредитом и инвестициями из общественных фондов. Если самостоятельные инвестиции определяются лишь наличием у посессора свободных денежных средств, то возможности получения частных и общественных инвестиций определяются уровнем репутации посессора. Развитие предпринимательского общества требует повышения терпимости и даже аппетита к риску. Это значит, что человеку должна быть предоставлена возможность ошибаться и начинать снова. Если человек добросовестен, для него должен сохраняться доступ к инвестициям.
Инвестиции общественного сектора, получаемые от государственных и некоммерческих организаций, от коллективных источников финансирования (краудфандинг и т. п.), являются вторым источником инвестиций в посессии. Когда сам работник становится наиболее редким фактором производства и потребления, превращение средства труда в автомат ведет к тому, что с точки зрения общества автомат становится необходимым капиталом, который должен быть гарантирован работнику, чтобы он продолжал работать и потреблять. Общественный, или безусловный, доход и общественные инвестиции не нужны для перехода к обычному самовоспроизводству, такой переход может происходить и без них. Однако общественный доход и общественные инвестиции являются необходимым результатом такого перехода, и поэтому могут, по всей видимости, облегчить такой переход. Общественные инвестиции в посессии – это формирование необходимого капитала, софинансирование инвестиций из общественных фондов, в том числе на конкурсной основе, в том числе беспроцентное. Как и безусловный доход по отношению к величине необходимой стоимости, общественные инвестиции могут быть, и в начале процесса персонализации фактически оказываются, значительно меньше, чем величина всего необходимого капитала. При этом возможно, что со временем персонализация приведет к такому положению, когда общественный доход и общественные инвестиции вместе будут образовывать необходимое предприятие, складывающееся из необходимой стоимости и необходимого капитала.
Третьим источником инвестиций является кредит. На первых порах кредит, наряду со средствами самого посессора, и инвестициями со стороны общественного сектора, является одним из основных источников для формирования посессии. По мере того, как кредит превращается в участие в прибылях, процент на капитал превращается в ссудный процент. Чем ближе весь капитал предприятия к необходимому капиталу, чем ближе действие предприятия к минимальному действию, тем ниже становится процент. С точки зрения обычного предпринимателя, уплата процента до некоторой степени указывает на неэффективность его работы, на его неспособность свести капитал к минимальному, или необходимому.
Минимизация капитала – это и уменьшение порции капитала, которой можно найти эффективное применение. Система акционерного капитала и синдицированных кредитов не позволяет направлять капитал в небольшие проекты, проекты масштаба одного или нескольких человек. Такая система предназначена для крупных проектов, но по мере роста неопределенности и рисков она требует все большего участия государства. Возникает известная конкуренция частного и общественного капиталов. Эта конкуренция разрешается по мере персонализации. Инвестиции в крупные проекты все шире производятся за счет общественных фондов, а малые проекты могут быть эффективно реализованы лишь при условии персонализации капитала. Чем мельче предприятия, тем меньше норма процента, норма возрастания средств производства, поскольку снижается риск. Процент сокращается по мере минимизации капитала, то есть по мере уменьшения разрыва между сложностью и эффективностью индивидуальных и совокупных средств.