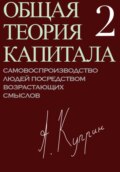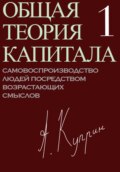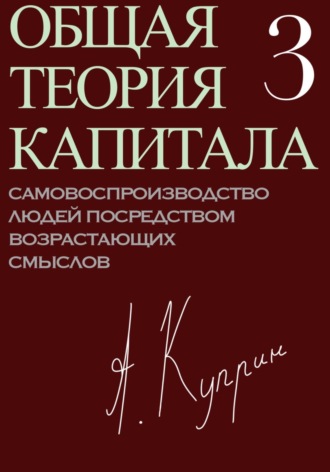
А. Куприн
Общая теория капитала. Самовоспроизводство людей посредством возрастающих смыслов. Часть третья
Возникновение и постепенное приближение безусловного дохода к базовому уровню есть отражение этого процесса постепенной автоматизации рутинных процессов по производству вещей и услуг. Технологии, взятые в их нематериальности, в качестве знаний, обладают свойством всеобщей потребительной ценности, а автоматизация технологий превращает их самих и их продукты в общественные блага:
«Всякое формализуемое знание может быть отделено от своего материального и человеческого носителя, практически бесплатно размножено в компьютерной форме и без ограничений используемо в универсальных машинах. Чем шире оно распространяется, тем выше его общественная полезность. Напротив, его товарная стоимость по мере распространения падает, стремясь к нулю: оно становится общим достоянием, доступным всякому» (Горц 2010, с. 14).
Казалось бы, идеализация должна вести к окончательному вытеснению человека из производства. Но производство не может развиваться само по себе, независимо от человека, как автоматизированное общественное благо, поскольку человек является его субъектом, источником всякого его роста. Деятельность людей сосредотачивается не на алгоритмических процессах, а на неповторяющихся, неалгоритмизируемых производственных проектах, которые приносят предпринимательский доход. Из процессной деятельности люди постепенно переходят в сферу проектной деятельности, а процессная деятельность остается роботам. Инфраструктура, то есть блага совместного пользования, из собрания вещей превращается в услуги или процессы, а супраструктура превращается в источник идей и эмоций. По мере того, как материальное производство превращается в автоматический процесс, его продукты обобществляются, становятся общественным благом, а проекты остаются предметом предпринимательской деятельности людей.
Наше разделение между производством вещей и производством идей до известной степени условно. Не существует четкой границы между одним и другим, между алгоритмом и творчеством, и возрастание смыслов будет вести к автоматизации и тех видов деятельности, которые, как считается сегодня, не подвержены ей. Потенциал роста производительности по мере идеализации ведет к необходимости более жесткого выбора в потреблении, к тому, что мы в главе 7 назвали аскетизмом. Чем шире у человека выбор, тем более жесткими критериями он вынужден руководствоваться:
«Суперизобилие, которое требует постоянной и все более активной фильтрации, переживает взрывной рост во многом благодаря тому, что вещи в совокупности становятся дешевле. В целом технологии со временем стремятся стать бесплатными, отсюда и возникает изобилие. Сначала в это трудно поверить, однако так происходит с большинством вещей, которые мы создаем. Если технология долго остается актуальной, ее стоимость постепенно приближается к нулю (но никогда его не достигает). Со временем любая конкретная технологическая функция будет работать так, словно она ничего не стоит. Это стремление стать бесплатными, кажется, свойственно и базовым вещам, таким как продукты и материалы для производства чего бы то ни было (которые часто называют сырьевыми товарами), и сложным предметам вроде электроники, а также услугам и нематериальным вещам» (Келли 2017, с. 220).
Говоря об аскетизме, мы не имеем в виду добровольное самоограничение. Никто, за немногими исключениями, не станет ограничивать себя в удовлетворении материальных потребностей. Аскетизм был бы возможен только благодаря такой организации общества, в которой люди имеют сходные возможности по удовлетворению своих потребностей, так что они взаимно ограничивают друг друга. Эволюция смыслов является результатом человеческого выбора, но при этом, замечает Вацлав Смил, сама же эволюция «парадоксальным образом» ограничивает этот выбор:
«Ограничение выбора является парадоксальным свойством мира, в котором доминирует то, что Жак Эллюль (1912–1994) назвал просто и всеобъемлюще la technique “совокупность методов, рационально продуманных и имеющих абсолютную эффективность (для данной стадии развития) в каждой области человеческой деятельности”. Этот мир дает нам беспрецедентные блага и почти магическую свободу, но взамен современные общества должны не просто адаптироваться к нему, но подчиняться его правилам и структурам. Каждый человек сейчас зависит от этой “техники”, но ни один не понимает ее во всей совокупности; мы просто следуем ее диктату в повседневной жизни. Последствия не ограничиваются невежественным повиновением, поскольку растущая мощь технологий освобождает все большее количество людей от участия в производственных процессах, и только малая часть рабочей силы теперь требуется (со все растущей помощью компьютеров) для проектирования и изготовления предметов, предназначенных для массового потребления. В результате сейчас в продажах продукта занято гораздо больше людей, чем в его разработке, создании и усовершенствовании» (Смил 2020, с. 407).
Обычное самовоспроизводство не является неким «идеальным» типом самовоспроизводства, который обеспечивает свободу, справедливость или эффективность. На деле это способ адаптации человечества к новому этапу социально-культурной эволюции. Он направлен не на достижение каких-то абстрактных идеалов, а на возрастание смыслов за счет изменения роли индивидов. В этом смысле идеализация есть продолжение и вместе с тем отрицание индустриализации. Если в ходе индустриализации система машин «овладела» людьми, то в ходе идеализации люди «овладевают» системой машин. По мере того, как население перестает расти и индивид становится «редким благом», его интеллект, или «мышленность», подчиняет себе старую «промышленность». Система машин перестает быть продуктом абстрактной науки, оторванным от человека, и становится роботом или ботом, служащим дополнением к работнику, представляющему науку на практике. Вот почему Питер Друкер писал в 1999 году, что когда рабочий превращается в мыслителя, приходится от управления людьми переходить к направлению людей:
«Повышение эффективности работника умственного труда должно, по всей видимости, стать целью управления персоналом, как повышение производительности малоквалифицированного рабочего было целью управления персоналом на протяжении прошедшего столетия, со времен Тейлора. Для этого потребуются, помимо всего прочего, совершенно иные подходы к работникам организации и к их работе» (Друкер 2004, с. 109).
Индустриализация повышала эффективность работника физического труда, идеализация повышает эффективность работника умственного труда. В ходе промышленной революции сложность и эффективность производства могли повышаться независимо от повышения сложности и эффективности отдельных работников. В ходе идеализации творчество каждого работника становится условием для развития производства. Рост производительности в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг является результатом научного менеджмента. Слабый ИИ продолжает и усиливает эту тенденцию, повышая производительность умственного труда. Но вместе с тем он ставит под сомнение чисто научные основания производства. В нематериальном производстве, в производстве идей и эмоций рост является продуктом не только науки, но и искусства. Он зависит не только от рутины, от слабого ИИ, но и от творчества предпринимателей, от их мотивации, эмоционального и рационального интеллекта. И, парадоксальным образом, от перспектив автоматизации творчества.
Трудная проблема субъекта и сильный ИИ
История машин начиналась с расширения возможностей человека, его физических и интеллектуальных способностей. Теперь же ставится вопрос о том, чтобы машина могла так обрабатывать информацию, чтобы она не была дополнением к интеллекту человека, а была самостоятельным субъектом, то есть сильным искусственным интеллектом, сильным ИИ. Если слабый ИИ – это расширение естественного субъекта, повышение сложности человека и общества-культуры, то сильный ИИ – это рост численности субъектов, то есть появление новых субъектов и новых их видов наряду с людьми.
Если слабый ИИ есть лишь средство для деятельности человека, то гипотетический сильный ИИ сам является субъектом. Средства участвуют в деятельности, но не ведут деятельность, не могут сами менять ее сложность. Слабый ИИ, сколь бы большим расширением естественного интеллекта он ни был, даже если бы он позволил продлить жизнь людей в два раза, сам по себе не является субъектом. Если люди исчезнут, то с ними исчезнет и слабый ИИ. Сильный ИИ – это алгоритм творчества или «непредсказуемая случайность, ставшая неизбежной необходимостью». Он не исчез бы при исчезновении людей и смог бы сам повышать свою сложность. Возрастание смыслов постепенно создает его элементы, и некоторые из них, быть может, уже существуют, но целостное решение еще очень далеко.
Проблема состоит в том, что создать искусственного субъекта труднее, чем сохранить естественного. Предварительным условием создания сильного ИИ является, видимо, воспроизводство человека в искусственной форме. Невозможно создать нечто, что выходит за пределы человеческого, не повторив сначала самого человека. Прежде, чем создавать одушевленные машины, людям придется научиться переносить в машины уже имеющиеся живые человеческие души. Подлинное сообщение о том, что удалось создать искусственного субъекта придет, думается, не раньше, чем придет сообщение о том, что удалось добиться бессмертия человека.
Распределение забот по воспитанию детей между аллородителями, с которого, как считает Джозеф Генрих, началась в свое время человеческая культура, перекликается с идеей Манфреда Эйгена о гиперцикле. Согласно этой гипотезе, для возникновения жизни необходимо было преодолеть «порог ошибки», то есть максимальный размер, при превышении которого молекула РНК не могла передавать «по наследству» свои свойства. Этот порог оценивается примерно в 100 спаренных оснований. В современных молекулах этот порог преодолевается за счет ферментов, однако ферменты сами являются продуктом биологической эволюции. Согласно гипотезе Эйгена, «порог ошибки» был преодолен за счет того, что некоторые РНК смогли взять на себя функцию фермента и обеспечить другие молекулы возможностью увеличиться сверх порога ошибки (см. Szostak, Wasik and Blazewicz 2016). Таким образом, как в случае с началом биологической, так и в случае с началом культурной эволюции, они начались, когда были выполнены два условия:
● за счет количественного накопления изменений был достигнут некий порог, который сами представители популяции (молекулы, гоминиды) не могли преодолеть;
● часть популяции, в которой происходило это накопление, взяла на себя функцию не (только) по собственному воспроизводству, но и по развитию другой части популяции (фермент, воспитатель).
Применительно к той трансформации, которую мы ныне наблюдаем, то есть применительно к развитию ИИ, задачу количественного накопления выполняют люди, повышая вычислительную мощность машин и занимаясь их обучением. Однако такое количественное накопление, сколько бы оно ни продолжалось, никогда не приведет к возникновению сильного ИИ, но будет лишь расширять естественный интеллект людей и их общества:
«Аналог идеи о том, что искусственный интеллект можно создать, накапливая трюки чатбота, – это ламаркизм, теория о том, что новые адаптации можно объяснить изменениями, которые в действительности являются лишь проявлением существующих знаний» (Дойч 2014, с. 208).
Для того, чтобы возник ИИ как субъект, нужен скачок, аналогичный появлению живой молекулы. Кто или что возьмет на себя роль «фермента», который позволит преодолеть «порог ошибки», и какой показатель в данном случае составляет такой порог? Думается, первым шагом к ответу на этот вопрос может быть ответ на вопрос: какой показатель (или показатели) составил в свое время порог для перехода от инстинктов к практикам, и от практик к интеллекту? Понимание законов эволюции смысла приобретает особую важность с учетом перспектив развития искусственного интеллекта. Решить задачу создания сильного ИИ – это то же самое, что решить трудную проблему субъекта: что такое свобода воли, есть ли она и как она появляется.
Для того, чтобы создать сильный искусственный интеллект, нужно воспроизвести все слои информации, имеющиеся в естественном интеллекте человека – то есть и некоторое подобие генетической информации, и все слои культурной информации, начиная от инстинктов через обучение и вплоть до интеллекта. Пока мы наблюдаем, как эти слои воспроизводятся в обратном порядке, причем нижние слои воспроизводятся более тяжело. Как гласит парадокс Моравека, компьютеру
«относительно легко достичь уровня взрослого человека в таких задачах как тест на интеллект или игра в шашки, однако сложно или невозможно достичь навыков годовалого ребенка в задачах восприятия и мобильности … В больших, высокоразвитых сенсорных и моторных частях человеческого мозга закодирован миллиард лет опыта о природе мира и о том, как в нем выжить. Я считаю, что тот произвольный процесс, который мы называем рассуждением, есть тончайший поверхностный слой человеческого мышления, и эффективен он только потому, что его поддерживает гораздо более старое и гораздо более мощное, хотя обычно и бессознательное, сенсомоторное знание. Мы все выдающиеся олимпийцы в области восприятия и моторики, мы настолько хороши в этом, что трудное выглядит легким. А абстрактное мышление – это новый трюк, которому, возможно, менее 100 тысяч лет. Мы еще не освоили его. Он не так уж и сложен, он лишь кажется сложным, когда мы его делаем» (Moravec 1988, p. 15-16).
Эволюция человека шла от инстинктивных сенсомоторных действий через деятельность, основанную на обучении и практиках, к разумным операциям, а эволюция искусственного интеллекта протекает, так сказать, в обратном направлении: от решения рассудочных задач (игры) через практики (машинное обучение) к машинным инстинктам (механическое движение).
Эволюция ИИ является задачей, но вместе с тем проблемой. В своей работе 1969 года «Искусственный разум» Николай Амосов писал, что когда у искусственного интеллекта появится способность к самовоспроизводству, к самоорганизации, он неизбежно превратится в личность со всеми ее чертами:
«Пределы независимости личности, границы ее возможного отличия от первоначально заданных программ – эти понятия имеют количественное выражение. Поведение одних людей остается в пределах преподанных воспитанием норм, другие люди выходят за эти границы – вплоть до преступлений против общества. Многое зависит от прочности воспитания и “воспитуемости” – индивидуальных свойств коры головного мозга и подкорки. Все эти качества будут задаваться и искусственному разуму, с тем чтобы они служили некоторой гарантией “лояльного” поведения в отношении людей (вспомним «Законы роботехники» А. Азимова!). Правда, гарантии относительные, и они тем меньше, чем выше уровень самоорганизации. В то же время поведение искусственной личности, даже если она будет умна, не обещает быть всегда “разумным”. Вероятность ошибок остается, поскольку сохранится ограниченность познавательных возможностей и субъективность суждений. Так возникает опасность не только ошибочного, но и злонамеренного поведения разумных машин в отношении людей. Опасность велика, если это касается машин, принимающих участие в управлении обществом даже в сфере чистой экономики. Смогут ли люди ограничить развитие систем искусственного разума или, по крайней мере, держать их под контролем? Боюсь, что ни то, ни другое невозможно» (Амосов 1969, с. 152-153).
Почему люди опасаются сильного ИИ? Потому что среди самих людей нет общепринятых норм, они не знают, как поведет себя другой человек. Тем более они боятся искусственного интеллекта, который обладает большими способностями, и также пренебрегает нормами. Может быть, супернормы смогут дать решение для проблемы сильного ИИ? Сильный ИИ, следующий супернормам, останется частью человеческого общества. Это дает подсказку к созданию сильного ИИ. Все нынешние попытки сконструировать ИИ сводятся к созданию только одного блока, основанного на смыслах существования, на эффективности и пользе. Однако если мы хотим создать «искусственного человека», то мы должны заложить в ИИ не один, а три блока: не только множество смыслов существования, но и множество смыслов общения, и множество смыслов самовыражения, то есть эффективность, справедливость и свободу. Эти три множества не могут быть упорядочены между собой.
Социальность делает человека субъектом, а не машиной. Сильный ИИ нельзя создать как изолированного субъекта, это должно быть искусственное общество, часть которого должна будет взять на себя функцию «фермента» или «воспитателя».
«… Степень и мера развития способности мыслить в отдельном индивидууме определяются вовсе не его индивидуально-морфологическими особенностями, а совсем иными обстоятельствами. И прежде всего объемом той сферы (области) культуры, которую этот индивидуум лично усвоил, превратил в личное достояние. Последнее же определяется опять-таки не биохимическими особенностями его тела, а только социальными условиями – формой разделения труда. Мышление всегда было и остается индивидуально осуществляемой функцией общего всем людям тела цивилизации. Поэтому, чтобы создать искусственный ум, хотя бы равный человеческому, придется создавать не только и не столько модель отдельного человеческого существа, сколько модель всего грандиозного тела культуры, внутри которого весь индивид с его пятнадцатью миллиардами мозговых клеток сам представляет собой только одну “клетку”, которая сама по себе мыслить способна так же мало, как и отдельный нейрон… Поэтому-то, если вы хотите сотворить искусственный ум, равный человеческому, вы должны создавать не одно-единственное искусственное существо, а целое сообщество таких существ, обладающее своей собственной культурой, т.е. целую машинную цивилизацию, столь же богатую и разветвленную, как и “естественная” – человеческая…» (Ильенков 2019-, т. 3, с. 145-146).
Социальное мышление – это эмоциональное мышление. Думается, что для создания сильного ИИ нужно «общество» искусственных интеллектов и их эмоциональная связь. «Эмоции – это другой способ мыслить» (Minsky 2006, p. 7). Субъект появляется тогда, когда он осознает свое отличие от другого и свое единство с другим, имеет образ самого себя, самоподобен. Чтобы стать субъектом, машина должна иметь в себе «модель другого» и «модель самой себя».
«Подводя итог, я считаю, что программный пакет, который может дать мыслящему устройству преимущества свободы воли, будет состоять как минимум из трех частей: причинной модели мира; причинной модели собственного программного обеспечения, пусть и поверхностной; и памяти, которая записывает, как намерения в уме устройства соответствуют событиям во внешнем мире» (Pearl and Mackenzie 2018, p. 367).
Причинная модель, или знание, в исходном пункте является средством деятельности, а в конечном пункте – самим субъектом, то есть (со)знанием. Искусственный интеллект станет субъектом, быть может, тогда, когда (1) научится адаптироваться, обретет потребности и эмоции; (2) научится творить, обретет идеалы; (3) научится воспроизводить себе подобных. После этого система машин больше не будет, наверное, удовлетворять потребности людей, а начнет удовлетворять свои собственные потребности. Но это будет уже совсем другая история.
Глава 9. Обычное обращение: порядок и свобода
1. Политика обычных рынков
(Само)конструирование рынков
Разделение труда, знаний и порядка входит в следующий этап своей эволюции. При простом товарном производстве ремесленник, производя добавленную стоимость, создавал и самостоятельный продукт, который он мог продать на рынке. В ходе коммерческой революции разделение смыслов привело к развитому товарному производству и наемному труду. Появились виды деятельности, которые не создавали и не создают готовый продукт для продажи на рынке, а производят полуфабрикаты для использования внутри предприятия. Предпринимательская контрреволюция приводит к обычному товарному производству, при котором распространяются виды деятельности, которые вновь создают самостоятельный продукт для продажи на рынке, и не являются частичной деятельностью внутри предприятия. Дело в том, что обычные рынки соединяют все индивидуальные рабочие места в экономике в единую распределенную сеть. Так что, находясь внутри любого предприятия, можно предлагать свой продукт любому другому предприятию. Если же продукт не нужен никому, рабочее место просто закрывается.
Независимо от того, как мы смотрим на процесс – входят ли рынки внутрь предприятий, или это предприятия распадаются на товарные рынки – в результате персонализации индивидуальные рабочие места превращаются в самостоятельные предприятия – посессии, а самодеятельность приходит на смену наемному труду. Персонализация приводит к отмиранию рынка труда. Вместе с рынком труда постепенно отмирает и рынок капитала, реальный капитал соединяется с работником. Именно работник, его интеллектуальные и аффективные силы, становится несущим элементом основного капитала. Средства производства перестают быть силой, противостоящей индивидам, и становятся элементом процесса производства, который связывает индивидов.
«Производство сегодня становится все более социальным в двух смыслах. С одной стороны, производственные процессы являются социальными; то есть, производство осуществляется не изолированно, а в сетях кооперации. Более того, эти правила и привычки того, как сотрудничать, как продуктивно относиться друг к другу, как правило, больше не навязываются сверху, а генерируются снизу, в социальных отношениях между производителями. С другой стороны, результаты производства также имеют тенденцию быть социальными. Вместо того, чтобы воспринимать материальные или нематериальные товары как конечную точку производства, нам нужно понимать их как производство (часто посредством товаров) социальных отношений и, в конечном счете, самой человеческой жизни» (Hardt and Negri 2017, p. 147).
Отмирание рынка труда и рынка капитала сопровождается развитием товарных рынков. При рассмотрении перспектив персонализации возникает вопрос, не приведет ли проникновение товарного рынка внутрь предприятий к «сверханархии», при которой посессоры в погоне за предпринимательским доходом мечутся между занятиями под действием сиюминутного ажиотажа. Ведь эта проблема характерна и для капитализма. «Анархическая система конкуренции вызывает безмерное расточение общественных средств производства и рабочих сил, а также множество функций, в настоящее время неизбежных, но по существу дела излишних» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 539). При капитализме проблема рыночной анархии отчасти решается путем администрирования:
«На ступени своего наивысшего развития господство функционирует как администрирование, и в сверхразвитых странах массового потребления администрируемая жизнь становится стандартом благополучной жизни для целого, так что даже противоположности объединяются для ее защиты» (Маркузе 1994, с. 335).
В этом плане Маркс в особенности подчеркивал роль администрации внутри предприятия: «Анархия общественного и деспотия мануфактурного разделения труда взаимно обусловливают друг друга в обществе с капиталистическим способом производства» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 369). Однако персонализация разлагает и предприятие, превращая его в партнерство самостоятельных предпринимателей, движущееся скорее силами конкуренции и кооперации, а не силами администрации. Насколько устойчива такая конструкция? Шумпетер полагал, что социальная система без иерархии вообще не может работать:
«… Капиталистическая деятельность, будучи по сути “рациональной”, имеет тенденцию к распространению рационального образа мышления и к разрушению тех привычек к лояльности и к подчинению низших слоев высшим, которые, однако, важны для эффективного функционирования институционализированного лидерства на производственном предприятии: ни одна социальная система не может функционировать, если она базируется на сети свободных контрактов между (законодательно) равными партнерами, в которой каждый руководствуется ни чем иным, кроме собственных (краткосрочных) утилитарных целей» (Шумпетер 2007, с. 828).
Здесь проявляется скептицизм по отношению к «невидимой руке». Как и во всех остальных отношениях, обычное общество начинается с того, что достается ему в наследство от расширенного самовоспроизводства, то есть оно начинается как общество иерархии. Но его внутренние тенденции ведут к постепенному превращению иерархии в распределенную сеть. Такая сеть подобна организму. В организме нет иерархии процессов и органов, но есть жизненно важные и иные органы, или, применительно к экономике, критическая и иная инфраструктура. Анархические, хаотические тенденции, связанные со всеобщим проникновением рынка, преодолеваются в обычном обществе за счет создания политических рыночных конструкций. Мансур Олсон в книге «Власть и процветание» (2000) говорил о том, что причиной процветания являются не спонтанно сложившиеся, то есть экономические, а политически сконструированные рынки:
«Некоторые виды рынков регулярно возникают независимо от того, есть ли у участников что-либо общее, а иногда даже вопреки тому, что участники испытывают друг к другу глубокую антипатию. Такие рынки возникают спонтанно, и некоторые из них в прямом смысле слова неустранимы. Я называю их самообеспечивающимися (self-enforcing) рынками. Напротив, некоторые другие виды рынков, которые я называю социально сконструированными (socially contrived) рынками, возникают только при наличии в обществе определенных институциональных механизмов. Такие особые институциональные механизмы обнаруживаются в качестве постоянного и непрерывного феномена только в богатейших странах мира, но их решающее значение остается не понятым даже в этих странах» (Олсон 2012, с. 185).
Для преодоления энтропии нужен порядок, а не иерархия, порядок же может быть не только (де)централизованным, то есть иерархическим, но и распределенным, он может быть основан на направлении людей, а не на управлении ими. В свое время Шумпетер предполагал, что социализм снимет свойственную для коммерческого общества проблему анархии и тем самым прекратит государственное вмешательство, поскольку полностью устранит разрыв между частным и общественным секторами:
«Частный сектор отделен от общественного не только концептуально, но и в реальной действительности. В значительной степени в этих двух сферах заняты разные люди (явное исключение составляет история местного самоуправления). Принципы их организации и управления также не только не совпадают, но сплошь и рядом противостоят друг другу, что является следствием различных и зачастую несовместимых стандартов, принятых в этих сферах. Все это приводит к почти постоянным экономическим трениям. Только в силу привычки мы перестали удивляться парадоксальности подобной ситуации. На самом деле экономические трения имели место еще задолго до того, как они переросли в антагонизм в результате все большего распространения общественной сферы за счет частной. Сам этот антагонизм сопровождается борьбой. … В социалистической же экономике издержек и потерь, связанных с этой борьбой, можно полностью избежать» (Шумпетер 2008, с. 586-587).
Но исторический опыт социализма показал, что «видимая рука» в одиночку не решает проблему совмещения конкуренции и администрации, поскольку вместе с анархией она губит любую самодеятельность и инициативу. Эффективности, справедливости и свободы нельзя добиться только в рамках общественного сектора. Шумпетер сам дает другой ответ на поставленный им вопрос. Этим ответом является самоуправление. Самоуправление лежит в основании (само)конструирования рынков. Попытка вести хозяйство лишь одной рукой – будь то невидимой рукой рынка или видимой рукой плана – в конечном счете влечет кризис. Опыт показал, что выживают и развиваются экономики, в которых администраторы и предприниматели сотрудничают, в которых контрнормы и личная инициатива сочетаются с регулированием со стороны общества, а общественные стратегии и супернормы – со свободой индивидов в выборе своих целей и средств. Упорядоченный беспорядок – это узкий коридор между анархией и застоем. Условием развития является конкурентный порядок, или, что то же самое, упорядоченная конкуренция. Конкуренция происходит из творческих сил индивидов, но упорядочивается она в рамках стратегий, основанных на кооперации и администрации.
В самоконструировании как сочетании саморегулирования и стратегии состоит ответ на проблему, поставленную Пьером Розанваллоном, который отмечает утопичность идеи о «саморегулируемой» экономике. Он пишет, что идеи об отмене политики – как в форме «саморегулируемых рынков», так и в форме «отмирания государства» – находятся в глубоком родстве. Обе идеи хотят полагаться только на спонтанные практики и отрицают роль стратегий. Та и другая идеи показали свою утопичность на протяжении XX века:
«Либеральная экономическая утопия XVIII века и социалистическая политическая утопия XIX века отсылают, как ни парадоксально, к одному и тому же видению общества, основанному на идеале полной отмены политики. С этой точки зрения либерализм и социализм, несмотря на все имеющиеся между ними расхождения, соответствуют одному и тому же моменту взросления и самоосмысления современных обществ. … Стремление к саморегулирующемуся гражданскому обществу, распространяющееся посредством идеи рынка с XVIII века, до сих пор составляет подоплеку наших экономических и политических представлений» (Розанваллон 2007, с. 29).
Поскольку обычное самовоспроизводство может существовать лишь как соединение свободы и порядка, либерализма и консерватизма, его приход приводит к политическим парадоксам вроде «консервативного либерализма» и «либерального консерватизма», в которых идея традиции и идея рынка сливаются в ранее невообразимое и вместе с тем неразрывное единство. На самом деле, как показывает Пьер Розанваллон, в этом нет парадокса: обычай является и основой порядка, и тем безличным механизмом, который в полной мере отвечает идеалам либерализма:
«Либерализм сопровождает вхождение обществ Нового времени в новую эру представлений о социальной связи, основанных на принципах пользы и равенства, а не, как это было ранее, на существовании некоего изначального единства. Противопоставляя себя руссоистскому универсуму договора, он становится пружиной критики, направленной против принципа руководства и воли. В некотором смысле, либерализм, в котором экономика и политика неразделимы, делает деперсонализацию мира условием прогресса и свободы. В своих политических сочинениях Юм, величайший либеральный философ XVIII века, идет еще дальше, восхваляя в духе этих идей привычку и обычай. Дабы впредь порядок не основывался на зависимости индивидов от политической или религиозной власти, поясняет Юм, необходимо действительно, чтобы поведение в обществе регулировалось максимально безличным механизмом, который труднее всего присвоить и которым труднее всего манипулировать, – традицией» (Розанваллон 2007, с. 31).