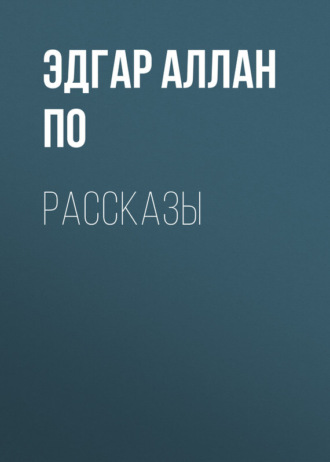
Эдгар Аллан По
Рассказы
Происшествие в Скалистых горах
В конце 1827 года, проживая вблизи Шарлотсвилла в Виргинии, я случайно познакомился с мистером Августом Бедлоу. Это был во всех отношениях замечательный молодой джентльмен, возбудивший во мне глубокий интерес и любопытство. Его личность оставалась для меня загадкой в духовном и физическом отношениях. О его семье я не мог получить никаких сведений. Откуда он явился, я не знал. Далее его возраст, хотя я называю его молодым джентльменом, порядком смущал меня. Конечно, он казался молодым и часто говорил о своей юности, но бывали минуты, когда я без особых колебаний дал бы ему сто лет. Но всего более поражала меня его наружность, Он был необыкновенно высок и тощ, сильно сутуловат, с длинными, худыми членами, с широким низким лбом и казался совсем бескровным. Его рот был велик и подвижен, а зубы замечательно неровные, хотя здоровые: таких странных зубов я ни у кого не видал раньше. Улыбка его, впрочем, отнюдь не была неприятна, но всегда одинакова.
В ней выражалась глубокая печаль – неизменная, вековечная тоска. Глаза у него были громадные и круглые, как у кошки. Зрачки сокращались и расширялись соответственно усилению или ослаблению света, как это наблюдается у представителей кошачьего рода. В минуты возбуждения они загорались необычайным блеском и, казалось, не отражали, а испускали лучи внутреннего света, как солнце или свеча, но в обыкновенном состоянии были до того тусклы, туманны и мертвенны, что напоминали глаза давно погребенного трупа.
Эти особенности, по-видимому, смущали его самого, и он часто намекал на них в разговоре, не то объясняя, не то оправдывая их, что вначале производило на меня крайне тяжелое впечатление. Вскоре, однако, я привык к этому, и неприятное впечатление рассеялось. Казалось, будто он хотел дать понять не прямо, а намеком, что не всегда был таким, что только ряд припадков невралгии изменил его наружность, отличавшуюся когда-то красотой не совсем обыкновенной. В течение многих лет он пользовался советами некоего доктора Темплтона, старого джентльмена лет семидесяти, с которым встретился в Саратоге и от которого получил, или думал, что получил, значительное облегчение. Поэтому Бедлоу, человек богатый, заключил с ним условие, в силу которого доктор Темплтон, за щедрое годовое вознаграждение, обязывался посвятить свое время и врачебную опытность исключительно заботам о больном.
В молодости доктор Темплтон много путешествовал, побывал в Париже и сделался последователем Месмера. Исключительно месмерическими средствами он сумел облегчить жестокие страдания своего пациента; и этот успех, естественно, внушил последнему известную степень доверия к идеям, на которых основывались эти средства. Но доктор, подобно всем энтузиастам, добивался полного обращения своего ученика, в чем и успел настолько, что больной согласился подвергнуться целому ряду опытов. Частое их повторение привело к результату, который в наши дни потерял интерес новизны и никого не удивит, но в то время, о котором я пишу, был еще крайне редким явлением в Америке. Я хочу сказать, что между доктором Темплтоном и Бедлоу установился мало-помалу весьма определенный и сильный rapport, или магнетическая связь. Я не стану, впрочем, утверждать, что этот rapport превосходил пределы обыкновенной усыпляющей силы, но сама эта сила достигла высокой интенсивности. Первая попытка вызвать магнетический сон не удалась. На пятой или шестой успех был не полный, и то после долгих усилий. Только двенадцатая увенчалась полным успехом. После этого воля пациента быстро подчинилась воле врача, так что, когда я познакомился с ними, сон наступал почти мгновенно по желанию магнетизера, хотя бы пациент не знал о его присутствии. Только теперь, в 1845 году, когда подобные чудеса совершаются чуть не ежедневно тысячами, решаюсь я сообщить об этом, с виду невозможном, факте.
Темперамент Бедлоу был в высшей степени впечатлительный, раздражительный, восторженный. Он обладал богатым и пылким воображением, которое, без сомнения, возбуждалось еще сильнее под влиянием морфина. Морфин он поглощал в огромных количествах и положительно не мог обойтись без него. Обыкновенно он принимал сильную дозу тотчас после завтрака или, точнее, после стакана кофе, так как ничего не ел по утрам, а затем отправлялся, один или с собакой, бродить среди пустынных холмов, которые тянутся к юго-западу от Шарлотсвилла и известны под громким именем Скалистых гор.
В один пасмурный, теплый, серый день в конце ноября, в странное interregnum [19] времен года, которое называется индейским летом, мистер Бедлоу, по обыкновению, отправился на холмы. День прошел, а он не возвращался. В восемь часов вечера, не на шутку встревоженные его продолжительным отсутствием, мы собирались отправиться на поиски, как вдруг он неожиданно явился, по-видимому, в нормальном состоянии и более веселом настроении духа, чем обыкновенно. Он рассказал странные вещи о своей прогулке.
– Вы помните, – говорил он, – что я оставил Шарлотсвилл около десяти часов утра. Я прямо направился в горы и часов около десяти вступил в ущелье, совершенно неизвестное мне. Я с большим интересом пошел по его извивам. Пейзаж, окружавший меня, вряд ли можно было назвать грандиозным, но мне нравятся такие пейзажи своим невыразимо безотрадным видом. Пустыня имела вид безусловно девственный. Мне казалось, что нога человеческая еще не ступала по этим зеленым лужайкам и серым скалам. Вход в ущелье был до того незаметен и недоступен, что я, пожалуй, был первым искателем приключений, – первым и единственным проникшим туда.
Густой и совершенно особенный туман или дым, свойственный индейскому лету и нависший над всеми предметами, без сомнения, усиливал странное впечатление, производимое этими предметами. Туман был так густ, что я ничего не видел на расстоянии двенадцати ярдов. Тропинка, по которой я шел, была крайне извилиста, а солнца не было видно, так что я скоро утратил всякое представление о направлении. Тем временем морфин оказал свое обычное действие, придав глубокий интерес всему внешнему миру. В шелесте листьев, в зелени былинок, в форме трилистника, в жужжании пчелы, в блеске росы, в дыхании ветерка, в слабом аромате леса мелькал веселый рой поэтических и бессвязных мыслей.
Поглощенный ими, я бродил в течение нескольких часов, пока туман не сгустился до того, что мне пришлось пробираться ощупью. Тут невыразимое беспокойство овладело мной – род нервной дрожи и нерешительности, – я боялся ступить, думая, что вот-вот слечу в пропасть. Вспомнились мне также странные истории о Скалистых горах, о диком и свирепом племени, населяющем их пещеры и пропасти. Тысячи смутных грез осаждали и угнетали меня – грез тем более мучительных, чем они были туманнее. Но вдруг до моего слуха долетел грохот барабана.
Разумеется, мое удивление не знало границ. Барабан в этих горах был вещью, совершенно необычайной. Я бы не больше удивился, услыхав звук трубы архангела. Но моему изумлению суждено было еще увеличиться. Раздался дребезжащий звук, похожий на бряцанье связки ключей, и спустя мгновение смуглый полунагой человек с криком пробежал мимо меня. Он промчался так близко, что я почувствовал его горячее дыхание на своем лице. В руке у него был какой-то странный инструмент, состоящий из связки стальных колец, которыми он гремел на бегу. Лишь только он исчез в тумане, как за ним промчался с разинутой пастью и горящими глазами огромный зверь. Я не мог ошибиться насчет его породы. Это была гиена.
Вид чудовища скорее рассеял, чем усилил мой ужас, – теперь я понял, что брежу, и старался усилием воли вернуться к сознанию. Я смело и бодро пошел вперед: протирал глаза, громко восклицал, несколько раз ущипнул себя. Мне попался ручеек, и я вымыл в нем лицо, руки и шею. Вода освежила меня и, по-видимому, рассеяла странные ощущения, докучавшие мне. Я встал совершенно новым, как мне казалось, человеком и твердо, спокойно продолжал свой путь по незнакомой тропинке.
Наконец, истомленный ходьбой и тяжелой удушливой атмосферой, я уселся под деревом. Передо мной блеснул слабый луч солнца, и тень листьев дерева, легкая, но отчетливая, обрисовалась на траве. В течение нескольких минут я с удивлением рассматривал эту тень, Ее форма поражала меня. Я взглянул вверх. Дерево оказалось пальмой.
Я вскочил в страшном волнении, так как теперь не мог уже успокоить себя мыслью, что брежу. Я видел – я сознавал, что вполне владею своими чувствами, и эти чувства открывали моей душе целый мир новых и странных впечатлений. Жара сразу стала невыносимой. Воздух был напоен странным ароматом. Глухой, неумолчный ропот, подобный журчанию полноводной, но тихой реки, долетал до моих ушей, сливаясь с неясным жужжанием множества человеческих голосов.
Пока я прислушивался, будучи вне себя от изумления, сильный порыв ветра развеял завесу тумана, точно по волшебству.
Я находился у подошвы высокой горы и смотрел на расстилавшуюся передо мной обширную равнину, по которой извивалась величавая река. На берегу реки раскинулся город восточного типа, напоминавший описания «Тысячи и одной ночи», но еще более странного характера. С моего наблюдательного пункта, находившегося гораздо выше города, я мог видеть его со всеми закоулками, точно на карте. Бесчисленные улицы перекрещивались беспорядочно, по всем направлениям, напоминая скорее извилистые аллеи, чем улицы; они буквально кишели народом. Дома имели причудливо-живописный вид. Повсюду виднелись балконы, веранды, минареты, храмы, круглые окна, украшенные резьбой. Базаров было множество; они изобиловали разнообразнейшими товарами – шелком, кисеей, великолепными металлическими изделиями и драгоценными каменьями. Кроме того, повсюду пестрели знамена, паланкины, носилки со стройными дамами, закутанными в покрывала, слоны в пышных попонах, уродливые идолы, барабаны, трубы, гонги, копья, серебряные и вызолоченные жезлы. В этой суматохе, в шумной толпе среди миллиона черных и желтокожих людей в тюрбанах и мантиях, с длинными развевающимися бородами ревело бесчисленное множество священных, украшенных лентами быков, меж тем как легионы грязных обезьян с криком и визгом лазили по карнизам мечетей, по минаретам и башенкам. Эти шумные улицы спускались бесчисленными рядами ступеней к купальням на реке, которая, казалось, с трудом прокладывала себе путь среди тяжело нагруженных кораблей. За чертой города возвышались величественные группы пальм и кокосовых деревьев; там и сям виднелись рисовые поля, крытые соломой хижины поселян, цистерны, храмы, цыганский табор или одинокая грациозная девушка с кувшином на голове, пробирающаяся к берегу величавой реки.
Вы, конечно, скажете, что я грезил, но этого не было. Во всем, что я видел, что я слышал, что я чувствовал, что я думал, не было того специфического оттенка, который всегда характеризует грезу. Все имело строго реальный характер. Сначала, думая, что брежу, я подверг себя ряду испытаний, которые убедили меня, что все это происходит наяву. Когда во сне является мысль, что «это только сон», – она всегда подтверждается, и спящий просыпается почти тотчас же. Новалис совершенно справедливо заметил: «Мы близки к пробуждению, когда нам снится, что мы спим». Если бы видение, явившееся передо мною, не возбудило во мне подозрения, что я сплю, оно могло бы быть сном, но раз я заподозрил и проверил его, приходится отнести его к разряду других явлений.
– В этом отношении вы, может быть, и правы, – заметил доктор Темплтон, – но продолжайте. Вы встали и спустились в город…
– Я встал, – продолжал Бедлоу, взглянув на доктора с глубоким изумлением, – я встал, как вы говорите, и спустился в город. По дороге я смешался с толпой, спешившей туда же, по-видимому, в крайнем возбуждении. Внезапно я проникся глубоким личным интересом к тому, что здесь происходило. Точно я чувствовал, что мне предстоит важная роль в какой-то драме, хотя не сознавал ясно, в чем она состоит. Во всяком случае, я испытывал чувство глубокой вражды к окружавшей меня толпе. Я выбрался из нее и окольной тропинкой добежал до города. Здесь стояла страшная суматоха. Небольшой отряд людей, одетых в полуевропейское-полуиндийское платье, под начальством офицеров в полубританской форме, выдерживал неравную борьбу с толпой, кишевшей на улицах. Я присоединился к слабейшей партии, подобрав оружие убитого офицера, и дрался, сам не знаю с кем, с бешенством отчаяния. Но скоро нам пришлось отступить перед массой врагов; мы укрылись в каком-то павильоне, забаррикадировались и на время оказались в безопасности. Из амбразуры под крышей я видел огромную толпу, которая с бешеным увлечением осаждала красивый дворец над рекой. Вскоре из окошка в верхнем этаже дворца показалась изнеженного вида фигура и спустилась по веревке, свитой из тюрбанов. Лодка поджидала ее внизу, на реке, и перевезла на противоположный берег.
Между тем новая мысль овладела моей душой. Я обратился к товарищам с немногими, но энергическими словами; некоторые из них присоединились ко мне, и мы отважились на бешеную вылазку из здания, Мы кинулись на окружавшую его толпу. Она не выдержала первого натиска и отступила. Потом оправилась, но после отчаянной схватки снова отступила. Между тем мы отошли далеко от павильона, запутавшись в узких улицах с высокими нависшими домами, куда никогда не заглядывало солнце. Толпа с яростью напирала на нас, угрожая копьями и забрасывая тучами стрел. Эти последние были весьма замечательны и напоминали извилистые ножи малайцев. Они походили формой на ползущую змею, были черного цвета и очень длинны, с отравленным острием. Одна из них ударила меня в правый висок Я пошатнулся и упал. Моментально страшная боль пронизала меня. Я корчился, я задыхался, я умер.
– Теперь, – сказал я смеясь, – вы вряд ли станете утверждать, что все это происшествие происходило наяву. Не думаете же вы, что умерли!
В ответ на это я ожидал услышать от Бедлоу какую-нибудь веселую шутку, но, к изумлению моему, он колебался, дрожал, страшно побледнел и не сказал ни слова. Я взглянул на Темплтона. Он сидел, выпрямившись, как палка, на кресле – зубы его стучали, глаза готовы были выскочить из орбит.
– Продолжайте! – сказал он наконец хриплым голосом.
– В течение нескольких минут, – продолжал Бедлоу, – моим единственным ощущением, единственным чувством было ощущение тьмы и небытия, сопровождавшееся ясным сознанием смерти. Наконец, внезапный и сильный, как бы электрический толчок потряс мою душу. Вместе с ним явилось ощущение подвижности и света. Этот последний я чувствовал, но не видел. Затем мне показалось, будто я встаю. Но у меня не было телесной, видимой, слышимой или осязаемой формы. Толпа исчезла. Шум прекратился. Город успокоился. У ног моих лежало мое тело со стрелой в виске, с раздутой, обезображенной головой. Но все это я только чувствовал, а не видел. Я ничем не интересовался. Даже собственный труп казался предметом, до которого мне нет никакого дела. Желаний у меня не было, но я почувствовал, что прихожу в движение и легко уношусь из города по той же извилистой тропинке, которая привела меня туда. Достигнув того места в ущелье, где мне встретилась гиена, я снова испытал сотрясение, как бы от гальванической батареи; и ко мне вернулось ощущение тяжести, воли, телесного существования. Я снова сделался самим собой и поспешил домой, но прошлое не потеряло своей яркости, и даже теперь мой рассудок решительно отказывается признать его сном.
– Это и не был сон, – сказал Темплтон глубоко торжественным тоном, – хотя я не знаю, как его назвать иначе. Предположим, что современный дух человеческий находится накануне поразительных психических открытий. Удовольствуемся этим предположением. Остальное я могу разъяснить. Взгляните на эту акварель, которую я показал бы вам раньше, если бы меня не удерживало какое-то необъяснимое чувство ужаса.
Мы взглянули на рисунок Я не нашел в нем ничего особенного; но действие его на Бедлоу было поразительно. Он чуть не лишился чувств. Между тем это был попросту миниатюрный портрет, правда, удивительной работы, его собственной замечательной физиономии. Так, по крайней мере, я думал.
– Заметьте дату рисунка, – сказал доктор Темплтон, – вот она, едва заметная, в уголке – тысяча семьсот восьмидесятый. В этом году был нарисован портрет. Портрет удивительно сходен с оригиналом – моим другом мистером Олдебом, с которым я познакомился и подружился в Калькутте, во времена Уоррена Гастингса. Мне было тогда всего двадцать лет. Когда я впервые увидал вас в Саратоге, мистер Бедлоу, меня поразило ваше удивительное сходство с портретом. Оно-то и побудило меня познакомиться с вами, искать вашей дружбы и, наконец, заключить условие, в силу которого я сделался вашим постоянным спутником. В этом последнем случае мною руководило отчасти, а может быть, и главным образом, воспоминание о покойном, но также и болезненное, не лишенное примеси страха, любопытство относительно вас самих.
Описывая видение, явившееся вам среди холмов, вы описали с мельчайшей точностью город Бенарес на Священной реке. Мятеж, схватки, резня – действительные происшествия в восстании Шеит Сингха, случившемся в восьмидесятом году, когда Гастингс едва избежал смерти. Человек, бежавший с помощью веревки из тюрбанов, был сам Шеит Сингх. Отряд в павильоне состоял из сипаев и английских офицеров под начальством Гастингса. Я принадлежал к этому отряду и всеми силами старался воспрепятствовать необдуманной и роковой вылазке офицера, павшего на улице от отравленной стрелы какого-то бенгалезца. Офицер был мой лучший друг. Это был Олдеб. Вы увидите из этой рукописи, – тут доктор вытащил из кармана записную книжку с свежеисписанными листами, – что в то самое время, когда вы переживали все эти происшествия в холмах, я описывал их здесь, дома.
Спустя неделю после этого разговора в шарлотсвиллской газете появилась следующая заметка: «С глубоким прискорбием сообщаем о смерти мистера Августа Бедлоу, джентльмена, завоевавшего общую симпатию граждан Шарлотсвилла своим приветливым характером и многими достоинствами. В последние годы мистер Бедлоу страдал невралгией, которая нередко угрожала роковым исходом, но эта болезнь послужила только косвенной причиной его смерти. Ближайшая причина очень странного характера. Несколько дней тому назад, во время прогулки в Скалистые горы, он схватил легкую простуду, сопровождавшуюся приливами крови к голове. Чтобы облегчить состояние больного, доктор Темплтон прибегнул к местному кровопусканию. Были приставлены пиявки к вискам. В поразительно короткий промежуток времени пациент скончался: оказалось, что в банку с пиявками попали случайно несколько ядовитых пиявок, водившихся в здешних прудах. Одна из них присосалась к маленькой артерии на правом виске. Ее сходство с медицинской пиявкой привело к ошибке, к несчастью, непоправимой.
Примечание. Ядовитая шарлотсвиллская пиявка отличается от медицинской своим черным цветом и червеобразными движениями, напоминающими движения змеи».
Я говорил с издателем газеты об этом замечательном случае и, между прочим, спросил его, почему фамилия покойного напечатана без «е»: Bedlo [20].
– Вероятно, у вас есть какие-нибудь основания, – заметил я, – но я всегда предполагал, что эта фамилия пишется с «е» на конце.
– Основания? – никаких, – отвечал он. – Это просто опечатка. Фамилия Bedloe всегда пишется с «е», насколько мне известно, и никогда не писалась иначе.
– Ну, – проворчал я, уходя от него, – видно, и впрямь правда чуднее выдумки. Ведь Bedlo без «е» – это Oldeb навыворот? А он уверяет, будто это опечатка.
Продолговатый ящик
Несколько лет тому назад я взял место на почтовом пакетботе «Независимость» – капитан Гарди, из Чарлстона, Южная Каролина, в город Нью-Йорк Мы должны были отправиться пятнадцатого июня, пользуясь попутным ветром; я четырнадцатого явился на судно привести в порядок мою каюту.
Я узнал, что на корабле будет много пассажиров, особенно дам. В списке имен я нашел много знакомых, в том числе мистера Корнелия Уайта, молодого художника, с которым меня соединяли узы самой теплой дружбы. Мы были товарищами по Ш-скому университету, где почти все время проводили вместе. Он обладал обычным темпераментом гения – смесь мизантропии, чувствительности и энтузиазма. Эти качества соединялись у него с самым нежным и верным сердцем, какое когда-либо билось в человеческой груди.
Имя его значилось на трех каютах, и, обратившись снова к списку, я узнал, что он взял места для себя, своей жены и двух сестер. Каюты были довольно просторные, и в каждой имелось по две койки, одна над другой. Разумеется, койки были так узки, что в каждой помещался только один человек, но я все-таки не мог понять, зачем понадобились три каюты для четверых пассажиров. Я находился в том брюзгливом настроении духа, когда человек упрямо привязывается к мелочам, и – со стыдом признаюсь – начал строить самые нелепые и неуместные предположения относительно лишней каюты. Это меня совсем не касалось, но тем не менее я упорно старался разрешить эту загадку. Наконец, я нашел решение, такое простое, что удивился, как оно не пришло мне в голову раньше. «Лишняя каюта, без сомнения, для прислуги, – подумал я, – как я глуп, что не догадался об этом сразу!» Тут я снова обратился к списку, но увидал, что никакой прислуги Уайт с собою не брал, хотя и намеревался, по-видимому, взять сначала, так как в списке стояли зачеркнутые слова «с прислугой». Ну, какой-нибудь особенный багаж, который он не хочет сдавать в трюм, а намерен оставить под своим присмотром, – да, да, конечно… картина или что-нибудь в этом роде… вот о чем он торговался с итальянским евреем Николино. Это решение удовлетворило меня, и я перестал думать о загадке.
Сестер Уайта я хорошо знал; обе были очень милые и неглупые девушки. Женился он очень недавно, и я еще ни разу не видал его жены. Впрочем, он часто вспоминал о ней в моем присутствии и всегда с восторгом. По его словам, она отличалась необыкновенной красотой, умом и образованием. Ввиду этого мне очень хотелось познакомиться с ней.
Узнав от капитана, что Уайт со своими спутницами тоже собирался навестить корабль четырнадцатого, я решил подождать, надеясь познакомиться с его женой. Но он прислал записку с уведомлением, что «миссис Уайт не совсем здорова, посему они явятся на корабль завтра перед отъездом».
На другой день, отправившись на пристань, я встретился с капитаном Гарди, который сообщил мне, что «по независящим от него обстоятельствам» (глупая шаблонная фраза!) корабль отправится только через день или два, и, когда все будет готово, он меня уведомит. Это показалось мне странным, так как дул свежий попутный ветер; но «обстоятельства», о которых я тщетно старался выведать что-нибудь, не подчинялись моей воле, и мне оставалось только вернуться домой и справляться со своим нетерпением, как умею.
Я не получал ожидаемого уведомления от капитана в течение недели. В конце концов, однако, оно явилось, и я немедленно отправился в гавань. Пассажиры были уже в сборе, стояла обычная суматоха отъезда. Уайт явился минут через десять после меня, с двумя сестрами и женой. Художник был в обычном меланхолическом настроении. Я, впрочем, слишком привык видеть его таким, чтобы обращать внимание на это обстоятельство. Он даже не представил меня своей жене; эту формальность исполнила его сестра, очень милая и умная девушка, познакомившая нас в немногих словах.
Лицо миссис Уайт было закрыто густой вуалью, и когда она подняла ее, отвечая на мой поклон, я, признаюсь, глубоко изумился. Я был бы еще более изумлен, если бы продолжительный опыт не научил меня относиться с некоторым недоверием к восторженным описаниям моего друга-художника, когда дело шло о женской красоте. Я знал, что в этих случаях он легко поддавался иллюзии.
Дело в том, что миссис Уайт обладала самой ординарной наружностью. Не будучи положительно дурнушкой, она недалеко ушла от этого. Во всяком случае, одета она была с замечательным вкусом и, без сомнения, пленила моего друга достоинствами ума и сердца, более прочными, чем физическая красота. Она сказала всего несколько слов и тотчас спустилась в свою каюту с мистером Уайтом.
Ко мне вернулось прежнее любопытство. Прислуги не было, – на этот счет не оставалось никаких сомнений. Я стал поджидать багаж. Немного погодя на пристани появилась телега с продолговатым сосновым ящиком, который, по-видимому, здесь и ждали. Тотчас по прибытии его мы отплыли и вскоре вышли в открытое море.
Как я уже сказал, ящик был продолговатой формы. В длину он имел около шести футов, в ширину – два с половиной. Я осмотрел его внимательно, так как люблю точность во всем. Форма у него была особенная, и при первом взгляде я решил, что моя догадка справедлива. Если припомнит читатель, я предположил, что мой друг-художник везет с собой какие-нибудь картины или картину, так как в последнее время он имел дела с Николино. Судя по форме ящика, в нем могла заключаться только копия с «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, а мне известно было, что копия «Тайной вечери» работы Рубини-младшего действительно находилась некоторое время в руках Николино. Итак, я счел этот вопрос решенным и порадовался своей проницательности. До сих пор Уайт никогда не скрывал от меня секретов, относившихся к его искусству, но теперь, очевидно, вознамерился провести меня и препроводить прекрасную картину в Нью-Йорк под самым моим носом потихоньку. Я решил хорошенько посмеяться над ним.
Одно обстоятельство смутило меня. Ящик не был поставлен в лишнюю каюту. Его поместили в каюте самого Уайта, где он и остался, заняв почти весь пол – без сомнения, к немалому неудобству художника и его жены, тем более что смола или краска, которой была сделана надпись на ящике, издавала сильный, неприятный и, по-моему, даже отвратительный запах. На крышке были выведены слова: «Миссис Аделаиде Куртис, Олбени, Нью-Йорк От Корнелия Уайта, эсквайра. Верхняя сторона. Обращаться осторожно».
Мне было известно, что миссис Аделаида Куртис, в Олбени, – теща художника, но я считал весь этот адрес мистификацией. Я был уверен, что ящик не поедет дальше мастерской моего меланхолического друга на Чемберс-стрит, в Нью-Йорке.
В течение первых трех-четырех дней плавания погода стояла прекрасная, хотя ветер переменился на южный, лишь только мы потеряли из вида берег. Пассажиры были в веселом и общительном настроении духа. Впрочем, я должен сделать исключение для Уайта и его сестер, которые относились к остальной публике сухо и почти невежливо. Поведение Уайта меня не удивляло. Он был мрачнее, чем когда-либо, – почти угрюм, – но я привык к его эксцентричностям. Что касается его сестер, то их поведение казалось мне непростительным. Они почти все время сидели в своей каюте и, несмотря на все мои старания, решительно отказывались от знакомства с кем-либо из пассажиров.
Миссис Уайт была гораздо любезнее. Точнее говоря, она была боязлива, а это большое достоинство на море. Она подружилась со всеми дамами и, к моему крайнему изумлению, выказывала недвусмысленные намерения кокетничать с мужчинами. Она очень забавляла всех нас. Я говорю «забавляла» – не знаю, как бы это объяснить. Дело в том, что смеялись чаще над нею, чем вместе с нею. Мужчины мало говорили о ней, но дамы вскоре порешили, что она «добренькая, довольно простая, совершенно невоспитанная и положительно вульгарная. Все удивлялись, как мог Уайт убить такого бобра. Наконец, решили, что его соблазнило богатство, – но я знал, что это вздор. Уайт говорил мне, что она не принесла ему ни доллара и не ожидала никакого наследства. «Он женился – таковы были его собственные слова – по любви и только по любви». Вспоминая эти слова, я, признаюсь, терялся в догадках. Как мог он дойти до такого ослепления? Как объяснить это? Он, такой тонкий, проницательный, с таким изысканным вкусом и пониманием прекрасного! Положим, она, по-видимому, была без ума от него, – что проявлялось в особенности в его отсутствие, – когда она смешила нас, постоянно цитируя слова своего «возлюбленного супруга, мистера Уайта». Слово «супруг» – по ее собственному изящному выражению – всегда было «на кончике ее языка». Между тем все пассажиры заметили, что он решительно избегал ее и большей частью сидел один в своей каюте, где оставался почти все время, предоставляя жене развлекаться как заблагорассудится в кают-компании.
Из всего мною виденного и слышанного я вывел заключение, что художник, в силу какого-то каприза судьбы или в порыве необдуманной и слепой страсти, женился на женщине, стоявшей гораздо ниже его, и что следствие этого брака – полное и быстрое разочарование – было уже налицо. Я пожалел его от всей души, но не мог простить скрытность относительно «Тайной вечери». За эту скрытность я решил отплатить ему.
Однажды он вышел на палубу, и я, взяв его под руку, стал расхаживать с ним взад и вперед. Его мрачное настроение (весьма естественное при подобных обстоятельствах) казалось решительно непобедимым. Он говорил мало, угрюмо и с очевидным усилием. Я отпустил две-три шутки, вызвавшие на его лице грустную улыбку.
Бедняга, вспоминая о его жене, я не удивлялся, что он не в силах даже притвориться веселым. Наконец, я решил приступить к делу. Я намеревался путем осторожных намеков и двусмысленных замечаний относительно продолговатого ящика дать ему понять, что вовсе не сделался жертвой его забавной мистификации. Для начала я сказал что-то об особенной форме этого ящика, причем лукаво усмехнулся, подмигнув, и слегка толкнул его пальцем в бок.
Впечатление, произведенное на Уайта этой невинной шуткой, разом убедило меня, что я имею дело с сумасшедшим. Сначала он уставился на меня, точно не мог понять соль моего замечания, но по мере того, как она уяснялась ему, глаза его выкатывались из орбит. Он побагровел, потом страшно побледнел и, наконец, залился громким и шумным смехом, который, к моему изумлению, длился, постепенно усиливаясь, минут десять или более. В заключение он тяжело грохнулся на палубу. Когда я кинулся поднимать его, он казался мертвым.
Я обратился за помощью, и мы с большим трудом привели его в чувство. Опомнившись, он забормотал что-то бессвязное. Мы пустили ему кровь и уложили его в постель. На другое утро он совершенно оправился, по крайней мере, физически. Я не говорю, конечно, о его душевном состоянии. С этого дня я стал избегать его, по совету капитана, который, по-видимому, разделял мое мнение насчет его помешательства, но просил не говорить об этом никому.







